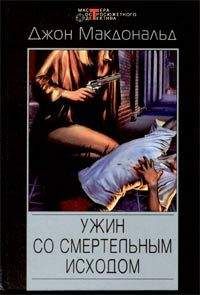Мы с Ноэль приехали в пятницу, болтая с едва уловимой натянутостью людей, которые познакомились в поезде. Она была мила, элегантна, но для меня это было все равно что смотреть на фотографию девушки, которую я когда-то знал. Я глядел на нее совершенно отстраненно. Весь окружающий мир был пресным, невыразительным и приземленным. Единственным ярким явлением в этом мире, единственной реальностью было требовательное тело с ярлыком «Уилма». В нем мне предстояло найти очередной момент забытья и великой ослепленности, которая перевесит все сожаления.
Я рассчитал время так, чтобы мы приехали пораньше. Гилман Хайес прикатил вместе с Уилмой, в ее машине. Они уже были там к нашему приезду. Уилма сказала, какую комнату нам отвела, с тем чтобы я отнес туда наши вещи. Уверен, она шепнула Хосе, что я ничего собой не представляю, так что мне помогать не нужно. Хосе даже смешивает и подает мне напитки с почти ощутимой неохотой. Это — типичный пример ее штучек.
После приезда Стива Уинсана я понял, по тому, как он все время поглядывал на меня, что он хочет со мной переговорить. Я догадывался о чем. А когда он улучил момент, чтобы попросить меня об этом, согласился. Стив достаточно глуп, чтобы обращаться со мной с презрением. Я держался с ним твердо, все это время надеясь на то, что Уилма ничем не намекнула ему об опасности. А потом ему хватило проницательности, чтобы напрямую заявить, что Уилма и для меня представляет угрозу. Про себя же намекнул, что он прожженный и опасный человек, вполне способный применить любое доступное ему оружие. Вот только я так и не мог сообразить, какое же оружие ему доступно? Уилма сообщила Стиву, что избавляется от него. А она не из тех, кто меняет свои решения.
Мэвис, как обычно, утомляла окружающих бурными проявлениями чувств. Джуди Джона выглядела почти самой собой, но я почувствовал в ней усталость. Пол Докерти казался вообще довольно неуместным в этой нашей маленькой компании. Когда-то, наверное, и со мной было то же самое. Гилман Хайес превзошел самого себя по части хамства, оскорбляя тех, кого он не игнорировал. Одним словом, в воздухе чувствовалась напряженность. Уик-энд не сулил ничего хорошего. У меня это вызывало нервозность. Я старался не забывать о том, что доктор советовал мне не суетиться, не нервничать, стараться по возможности расслабляться. Но мой доктор никогда не проводил уик-энда с Уилмой Феррис. Она большой специалист по части создания напряжения, потому что подпитывается им, так что намеренно устраивает недоразумения, взаимное непонимание.
Уоллас Дорн старался держаться с его обычной помпой. Ноэль сидела так, как будто сознательно исключила себя из компании, но Уилма всегда до приторности с ней любезна. В общем, мы ели, пили, они играли в разные игры. Я бродил вокруг и пил слишком много. Мэвис танцевала с Гилманом Хайесом. Это было не слишком приятное зрелище.
Когда вечер, наконец, завершился, я был рад. Ноэль рано улеглась спать. Она уже спала, когда я пришел в нашу комнату. Я разделся в темноте и лег. У меня было такое состояние, будто все мои нервы выскочили через кожу наружу и колеблются в ночи, улавливая все эмоции, перемещавшиеся по большому дому. Я разложил всех попарно. Наверное, Стив нашел дорогу к комнате Джуди. Пол и Мэвис вместе, как им и положено. А Гилман — с Уилмой. Я лежал совершенно обескровленный, представляя их телодвижения во тьме, шуршания, объятия, поцелуи, и с горечью рассуждал, что человеческая судьба заключается в том, чтобы быть рожденным, выращенным и в итоге — мертвым. Среди всего этого есть только одно, над чем ты властен, — это функция мужчины. А в случае с нами — абсолютно бессодержательная функция. Бесплодное ощущение, ничего не создающее. Судьба и функция в темном доме, в ночи с оголенными нервами, в то время как моя жена, к которой я давно уже не притрагивался, лежит, погруженная в серебряные мечтания своего вязкого мозга, — неиспользованное тело, спокойное и неподвижное, а кровь циркулирует по ней, и молекулы кислорода разносятся по тесным коридорам. Это был секрет, который я мог бы ей поведать. Не осталось ничего, кроме функции, суженая моя. Ничего, кроме этого. И никаких больше громких слов. Никакой гордости, никакого стыда. Никакой чести и никакого бесчестья. Ничего, кроме тела, его потребностей и забвения, обретаемого в удовлетворении этих потребностей. Я лежал мертвый и знал, что я мертв. А ведь приложив совсем немного усилий, я мог бы захватить Уилму с собой. В ад. Почему я так подумал? Если есть только функция, то нет никакого ада. Никакого искушения, никакого порока. Лишь условность, которую мы создаем для себя, чтобы сделать жизнь более или менее сносной. Потому что нам нужны эти вымыслы. Столкнись мы когда-нибудь с абсолютной бессмысленностью, мы бы умерли. Как умирал я, понемножку, столь разными способами, в течение такого длительного времени, что ничего уже не осталось.
А потом, к собственному изумлению, я перевернулся, прижался глазами к подушке и заплакал. Беззвучно, с беспомощностью больного ребенка. Это действительно удивило меня, потому что мне казалось, что и такое уже невозможно.
Я заснул с мыслью о том, как выглядела бы мертвая Уилма.
К тому времени, когда я проснулся, Ноэль уже встала и ушла. Большинство гостей позавтракали и спустились к воде. Я спал долго, но никакого отдохновения это не принесло. Для меня это было не ново. Я уже давно сплю тяжело, просыпаясь в том же самом положении, в котором уснул. Сон без снов. Маленькая смерть. И никакого отдыха. Почему так? Доктор объяснил, что это может быть связано с моим физическим состоянием. Я думаю, что это составляющая желания смерти. Потому что есть и другие симптомы.
В дни былого счастья Ноэль говорила мне, что я делаю культ из порядка. Это было правдой. Желтые карандаши, выстроенные в ряд и остро отточенные. Похожие на солдат столбцы цифр с неизбежно подводимым итогом. Серо-голубые папки и маленькие цветные наклейки. Апрельский отчет. Таблица курсов акций. Скобки, кремовая лоснящаяся папка и ежедневник, в котором каждый день препарирован скальпелем часов. В моем мире царил настоящий порядок. Вплоть до того, что носки лежали определенным образом, а в туфли были вложены колодки, вплоть до чистого бритья и момента опорожнения по утрам. Я содержал себя в чистоте, твердо ступал при ходьбе, разговаривал с точной последовательностью алгоритма, с внушающими доверие модуляциями. Я был чистым, и жена моя была чистой, и жизнь моя была чистой, и я с закрытыми глазами мог дотянуться рукой в любую часть моей жизни и отыскать то, что мне нужно, и мог заглянуть сквозь все призмы в чистое будущее и увидеть предначертанное продолжение выбранного пути.
Теперь я вообще не знаю, где что находится. Даже всякие мелочи, имеющие отношение к бизнесу. Швыряю бумаги в выдвижной ящик. Иногда сначала их комкаю. Ношу слишком длинные рубашки. Часто чувствую запахи собственного тела. Походка у меня не та, что прежде.
Это странно, потому что в той, другой жизни я осознавал, что существуют мужчины, которые стали одержимы женщиной, живым телом конкретной женщины. Но думал, что такие мужчины ближе к животным, что они более примитивны в своей пылкости и неистовстве. Я же был человеком с трезвым рассудком. Люди не отпускали скабрезных шуточек в моем присутствии. Во мне была какая-то строгость. И достоинство.
Теперь я одержим и теперь знаю, что наиболее часто подвержен таким тепловым катастрофам именно тот тип мужчин, к которым принадлежу я. А это мужчина, который каким-то образом перескочил через детство, родившись серьезным мальчиком, который всегда был первым в постижении наук и склонным к проповедничеству, подумывая о сане священника, но стал бухгалтером, кассиром в банке, учителем или актуарием. Такая холодность подсознательно стремится к теплу. Дух стремится к телу. Лед ищет пламя.
Теперь я забываюсь тяжелым сном, тяготею к беспорядку и требую жестокости. В унижении я ищу все более глубокой пропасти, все более сгущающегося мрака. Желания смерти. Потому что конечная функция пламени — сжигать без остатка. Я вижу себя со стороны, все то, что происходит, и мне наплевать. Я не что иное, как функция. И через функцию ищу смерти.
День выдался теплый. Они купались. Я долго буксировал водные лыжи за моторной лодкой, следил за счетом и судил, когда они играли в крокет. Они напились. Пол — больше всех. Когда им не нравилось принятое решение, они игнорировали мои слова. Уилма переоделась для игры в пляжный костюм из хлопчатобумажной ткани. Я наблюдал за ее телом, когда она ходила, когда наклонялась и ударяла по мячу, когда поворачивалась, чтобы посмотреть за чьей-нибудь игрой. Один раз, когда я встал слишком близко, она размахнулась молотком назад и ударила меня сбоку по колену, деревом по кости. Это было больно. Уилма принялась многословно извиняться. Все знали, что она сделала это нарочно, но молчали. Я чувствовал их презрение, оно обдавало с головы до ног, но мне это нравилось. Потом они забыли. Через некоторое время боль прошла. Я снова встал близко, но Уилма посмотрела понимающе и больше меня не ударила. Потому что знала, что я хотел от нее именно этого.