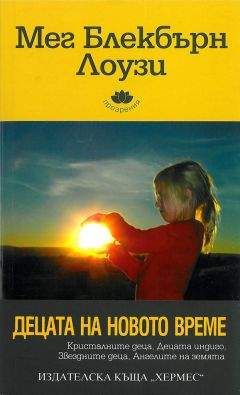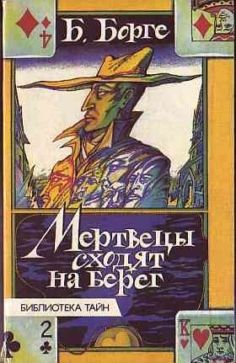Моника подошла ко мне. На ней было белоснежное платье. Впервые после приезда на Хайландет мы с ней оказались вдвоем.
- Ну, что мы будем делать? - спросила она, улыбаясь, - Давай покатаемся на лодке.
- Погода, по-моему, портится, - возразил я. - Взгляни-ка вон туда...
На горизонте над морем появились темные мохнатые тучи.
- Ну и что? Боишься промокнуть? - в ее словах мне послышался вызов, который чуть вспыхнул и снова погас, потому что она попросила:
- Ну, пожалуйста, Пауль, поедем! Мне очень хочется!
Мы спустились вниз к сходням, взяли старую моторку и отчалили. Я сидел у руля, а Моника, свесившись через борт лодки, опустила руку в зеленую воду. В этом белом наряде, с опущенной рукой, она походила на большого, прекрасного лебедя из сказки Андерсена. Ветер играл ее мягкими светло-каштановыми волосами, мне было видно ее маленькое розовое ухо. Если бы я был художником или скульптором, я изобразил бы ее вот такой, в лодке. Хотя все фантазии мастеров блекнут пред этой роскошнейшей картиной природы - живой, ослепительно прекрасной женщиной в белом платье.
- О чем задумалась? - спросил я, чтобы она пошевелилась.
Моника взглянула на меня и улыбнулась.
- Хорошо, правда? Я кивнул.
- Я вспомнила одну историю, которую якобы рассказывал Оскар Уайльд. В одном маленьком городе жил молодой человек. Он был поэтом. Каждый день он ходил гулять в одиночестве, а когда возвращался, усаживался в кабачке, и знакомые спрашивали, что он сегодня видел в пути. И он говорил, что когда шел через мост, видел в речке наяд и тритонов, а в лесной чаще танцевали фавны и крошечные эльфы. И каждый день он рассказывал людям свои сказки. Но вот однажды, когда он шел по мосту, он взглянул в реку и вдруг увидел, что там тритоны и наяды. Он пошел в лес - а там танцевали фавны и эльфы. Когда он вернулся в город и зашел в кабачок, его, как обычно, окружили друзья и спросили, что же сегодня он видел? Но он промолчал. Тогда они начали приставать к нему с расспросами. И тут он ответил: ничего.
Я помолчал, но все же спросил:
- И почему же тебе вспомнилась эта история? Ты полагаешь, что Арне - тоже поэт?
- Нет! - Она рассмеялась. - Я просто думаю, когда сам сочиняешь, легко рассказывать... А вот если представить, что твоя выдумка вдруг обернулась реальностью - тут-то и онемеешь!
- Значит, ты веришь, что здесь происходит нечто противоестественное? Сверхъестественное?
- Не знаю, чему тут верить или не верить... Но я чувствую, что надвигается какая-то беда. Когда сегодня я увидела Арне, его лицо, мне захотелось поскорее уехать домой. Да... Но что-то меня держит. Может быть, любопытство... Ах, Пауль, давай просто немножко отдохнем... Господи ты Боже мой, как же хорошо!..
Прошло не более четверти часа, как начал накрапывать дождь. Мои прогнозы сбывались: на море установился полный штиль, а небо продолжало темнеть. Поскольку мы все же находились в Атлантике, которая, как известно, шутить не любит, я предложил переждать грозу на ближайшем острове. Это был довольно большой островок.
В маленькой бухте за шхерами я заметил хижину. Моторка шла полным ходом, стараясь обогнать усиливающийся дождь. Через несколько минут мы вытащили лодку на берег и, привязав ее к боковому валуну, помчались вверх по склону к хижине.
В ней было пусто, на полу валялись рваные рыбацкие сети, пахло рыбьей чешуей. Конечно, домик был далеко не идеальным убежищем: с ветхой крыши в двух местах низвергались веселенькие водопады, стены прогнили и кое-где виднелась плесень. Но за полуразбитым крошечным оконцем уже плотной стеной хлестал дождь. Мир таял на глазах и норовил схлынуть в море...
Я сложил сети в кучу на сухом месте. Мы уселись. Я обнял Монику за плечи и бодро сказал:
- Мы тут, как Иона во чреве кита! Только он был один, а мы - наоборот... Удачно, правда?
Мокрые волосы падали ей на лицо, чудесное белое платье прилипло к телу и стало прозрачным. Она съежилась рядом со мной как дикарка, как женщина каменного века, застигнутая непогодой и ищущая приюта в укромной пещере. Я покрепче прижал ее к себе, а она шепнула:
- Пауль, мне страшно! Так страшно...
- Почему?
- Все очень странно и так... нехорошо. Какая-то отрава в воздухе... И я ... боюсь за Арне. Он так переменился. Знаешь, мне кажется, ему правда грозит опасность...
Я чувствовал запах ее духов, словно мне под нос сунули букет нарциссов. Она прижалась виском к моей щеке. Я не мог оторвать глаз от ее мокрой нежной груди, а ниже предательски влажное платье рельефно лепило ее маленький крепкий живот, округлые бедра и лоно. Во мне поднималась горячая красная волна... Я твердо приказал себе: "Пауль! Ты не должен желать жены ближнего, его вола и осла!" Отеческим жестом я похлопал ее по руке и отвел глаза. Старательно выговаривая слова, я произнес как можно тверже:
- Не надо нервничать, дорогая моя. Все это просто дурная шутка. Какой-нибудь местный юморист испытывает наше терпение. А что касается Арне, ты же сама знаешь...
Тут я сбился. Я почувствовал, что делаю что-то не так. Я взял ее за подбородок и повернул лицом к себе. Глядя ей прямо в глаза, я тихо спросил:
- Скажи мне, пожалуйста, честно: что у тебя с Арне? Ты хочешь быть... с ним?
Она опустила глаза. Лицо ее застыло.
- Не знаю... Поговорим лучше о чем-нибудь другом. Ты помнишь, как было чудно тогда, в Осло?
- Конечно, помню... Да ведь это было на прошлой педеле!..
- Да, правда... Уже не верится. Было так хорошо! Я вдруг ощутила себя свободной, как птичка. Как будто с меня свалилась какая-то тяжесть... Знаешь, я раньше всегда ощущала какую-то скованность, я была деревянная - и вдруг ожила. А теперь мне снова так тяжело, как будто меня, живую, заковывают в цепи. Мне так плохо, Пауль, мне хуже, чем прежде... Ты понимаешь? Ты поможешь? Ты - единственный, с кем я это почувствовала, ты не бросишь меня одну?
Что тут ответишь? Разве у меня был выбор? Разве самый крепкий военный корабль, бронированный от кормы до носа, не тонет от прямого попадания? Все мои благие намерения, все строгие параграфы, составляющие неписанный кодекс мужской дружбы, отлетели под натиском тихого, но неодолимого призыва. Я покрывал поцелуями это нежное, милое лицо, я пил слезы с ее сияющих глаз, я ласкал и терзал ее шепчущие губы. Моника, Моника!
О, прекрасные мгновенья упоительной безответственности, когда собственный разум и неумолимое время, наши вечные тираны, теряют свою власть, когда рушатся барьеры и исчезают преграды, когда все твердыни - твердыни стыда и железа - растворяются в аромате и музыке, обретают свежесть и сочность взрезанного ананаса! Никакое шампанское из самых знаменитых подвалов и погребов не сравнится с подлинным дурманом жизни, как бы ни старались его пенные брызги сыграть с нами в ту же игру... Не знаю, сколько продлилось это сладкое безумие: несколько секунд или около часа. Я ласкал ее нежное, мягкое, податливое тело, и упивался восторгом от каждого прикосновения, каждый миг дарил мне все новые откровения красоты. Глаза ее были томно прикрыты, а лицо и все тело излучали неведомое прежде блаженство. Моника, Моника...
И вдруг волшебство исчезло. Она напряглась, подняла голову и огромными, широко раскрытыми глазами уставилась на что-то позади меня. И закричала:
- Пауль! Пауль! Смотри!
Я обернулся и взглянул в окно. От ужаса меня передернуло, будто от удара током: за окошком в струях дождя я увидел грузную фигуру в зюйдвестке и робе. Лицо совсем рядом с разбитым стеклом, было худым и бледным, а глаза, эти незабываемые, водянисто-серые глаза без взгляда, без всякого выражения, смотрели на нас, мимо нас, сквозь нас. Силуэт расплывался, как сгусток тумана, как черный смерч. Но не узнать его было невозможно - это был Рейн.
Внезапно видение отодвинулось и исчезло в пелене дождя.
Мы судорожно сели и принялись приводить себя в порядок, как дети, застигнутые врасплох. Я ждал, что дверь отворится и человек войдет, но никто не входил. Я машинально поднялся и выглянул. Никого! Я вышел под дождь и внимательно осмотрелся.
Остров был пуст. Как большой хмурый тролль, он будто уселся на корточки, подставив мохнатую спину дождю - эта мокрая, поросшая травкой спина горбилась справа от меня, а слева была голая каменистая бухта с нашей лодкой, уныло-одинокой на прибрежной гальке у самой полосы прибоя. Никакого другого "плавсредства" с этой стороны островка видно не было. Я возвратился к Монике.
- Видимо, он деликатный человек, - сказал я, как можно спокойнее. - Понял, что помешал и предпочел удалиться. А может, он застенчив по натуре.
Но Моника была сильно испугана. Глядя на меня широко раскрытыми глазами, она прошептала:
- Ты видел, кто это? Это же тот самый тип, которого боится Лиззи! А помнишь, как испугалась его наша лошадь?
- Ну конечно, это бедняга Рейн. Ну и что? Разве можно так пугаться? Он просто чокнутый, ненормальный, и все. Уверяю тебя, ничего страшного...
Я сел рядом и обнял ее. Она дрожала.