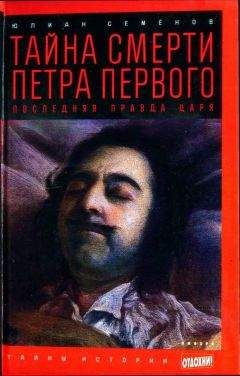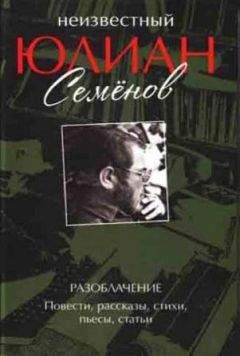Золле долго молчал, потом ответил еле слышно:
— Мне не на что...
— Я оплачу ваш билет. А что случилось, объясните толком?
Золле говорить не мог: плакал; лающе извинился и положил трубку.
Степанова разбудил Миша, которого друзья звали Пи Ар Ю Си, по английскому произношению первых букв его фамилии, то есть Прюс. Один из самых интересных переводчиков, журналист и медик, он, как всегда, был переполнен информацией (если же говорить о Мишиной основной профессии, то она довольно редкостная, и определить ее надо коротко: друг).
— Ты спишь? — требовательно спросил Миша. (Он обычно ставил вопросы, как напористый следователь прокуратуры; голос металлический, только смеется грустно.) — А напрасно! Вчера я брал интервью у одного американца, он торговец, в общем-то мелюзга, тянет миллионов на двадцать, так вот, он знает про твою книгу о нацистах, грабивших музеи Европы...
— Врет, — ответил Степанов, зевая...
— Сначала извинись, потом я продолжу...
— Врет, — повторил Степанов. — Это книга на английский не переведена.
— Я прошу тебя извиниться за то, что тягуче зеваешь, разговаривая со мною.
— Господи, Пи Ар Ю Си, ты что?!
— Ну, хорошо, ты же знаешь, я тебе всегда все прощаю! Так вот, американца зовут Иосиф Львович, он говорит по-русски, как мы с тобою, очень хочет повидаться.
— А на кой черт он мне нужен?
— Нужен. Но это не телефонный разговор.
— Собираешься взорвать мост? Отравить водопровод?
— Что?!
— Если нет, тогда говори все, что хочешь. Согласно Конституции, мы караем лишь терроризм, расизм и призывы к войне, все остальное вполне законно, то есть подлежит обсуждению по телефону.
— Ты сумасшедший, — рассмеялся Миша. — Ну, хорошо, этот самый Иосиф дал мне понять, что он готов войти в твое предприятие...
— То есть?
— То есть, как мне показалось, он намерен предложить тебе свои услуги в поиске и возвращении того, что ищут твои друзья на Западе.
— Откуда такая трепетная любовь к России?
— Он мальчишкой бежал от Гитлера из Польши... Отца занесло в Штаты, а его — к нам. Работал в Караганде, на шахте... На фронт не взяли, зрение плохое. Ну а потом вернулся во Францию, оттуда перекочевал к отцу в Панаму и взял американское подданство. Говорит, что русские спасли ему жизнь... Хочет отблагодарить. Только не знал, как это сделать... А когда прочитал тебя, сразу понял, что нужно предпринять. Главное, чтобы никакой политики, — он так и сказал: «Я — очень трусливый, боюсь политики, как огня».
— Врет, — повторил Степанов и поднялся с низкого дивана, который подарила ему вдова профессора Авдиева, его университетского учителя. — Химичит.
— Ты думаешь? — Голос Пи Ар Ю Си сделался звенящим. — Или у тебя есть основания говорить так?
— Оснований нет, — ответил Степанов. — Какие основания, если я его не видел?
— Дать ему твой телефон? Или послать к черту?
Степанов пожал плечами:
— Пусть позвонит...
— Теперь последнее. Как ты думаешь, стоит переводить Апдайка? Или лучше написать в Рим, Гору Видалу, чтобы он прислан мне свой новый роман? Погоди, одну минуту, я закрою дверь, страшно кричит Темка, у него болит животик, вчера съел помидор.
Степанов воочию увидел, как Миша — по-юношески порывистый в свои пятьдесят четыре года — вскочил с табуретки (он обычно вел телефонные разговоры с кухни, сделанной удивительно уютно красиво, чисто американский стиль, тамошние архитекторы научились делать восхитительный дизайн для кухонь, как-никак сердце дома), закрыл дверь в комнату, где его красивая молодая жена возилась с годовалым Артемом, вернулся на место, закурил и резко бросил трубку к уху.
— И еще: у тебя нет знакомых, которые продают морозилку. Только не финскую, а нашу, за двести восемьдесят?
— Нет, Мишенька.
— Жаль.
— А у тебя нет хорошего дерматолога?
— Записывай. — Как всегда, Мишина реакция была стремительной. — Сто двенадцать сорок один сорок три, добавочный два сорок, попроси к аппарату Вадима Михайловича, скажи, что от меня, представься, это лучший врач из всех, каких я знаю. Что-нибудь еще?
— Ты в Лондоне был?
— Был ли я в Лондоне?! Я жил в этом прекрасном городе полгода, когда возил туда выставку наших фотографий! Незабываемо! Записывай телефоны, я отдаю тебе великолепных людей...
— Кто они?
— Мои друзья, этого достаточно!
«Как Роман Кармен, — подумал Степанов, — тот всегда писал мне рекомендательные письма... И в Мадрид писал, своему ученику Антоше Гонсалесу, пусть ему земля будет пухом, и Кэпштайну в Париж, и в Голливуд, Дмитрию Темкину, тоже умер; и во Вьетнам писан, в Гаагу, и в Токио, и в Чили, когда там был Корвалан; с его друзьями сразу же завязывалась дружба, и не так было страшно жить в этом тревожном мире, потому что совершенно разные, незнакомые до того люди садились за стол, выпивали чарку водки, стакан чаю или чашку кофе и уговаривались о том, как и чем можно помочь друг другу. Как обидно, что термин „рекомендательное письмо“ ушел из нашего обихода; ведь рекомендуют только того, в кого верят; на визитной карточке может быть множество титулов, но разве они определяют истинную ценность человека?! Нет, конечно же. А напечатать про себя два слова: „порядочный человек“ — как-то не с руки, особенно с нашим российским комплексом застенчивости. Нет Ромы... Но остался, слава богу, Миша Пи Ар Ю Си, рядом Слава, Виталий, Санечка Беляев, рядом Хажисмел Саншоков, Таир, Шайдук, Арчил, дед Данила, Эльдар, Семен, Корнеич, Магомет, какое все-таки счастье, что дружество н е п р е р ы в а е м о, уходит звено, но связующая цепь остается, в этом главная надежда человеческая...»
Миша продиктован телефоны, объяснил, у кого можно остановиться, если кончатся деньги на отель, кто в силах финансировать затраты на транспорт при том, что ответишь тем же в Москве, кто поможет посмотреть самые интересные спектакли и кто — в случае нужды — проконсультирует (причем бесплатно) насчет сердца и почек; поинтересовался, нет ли у Степанова знакомых в Архангельске, туда летит его подруга; записал адрес охотника и краеведа Антипкина, спросил, не болит ли у Мити затылок в связи с дикими атмосферными перепадами, порекомендован в этом случае пить компламин и, сказав, что он должен срочно вести на прогулку своего пса чао-чао, положил трубку, успев при этом пошутить про то, что «не может Митя без еврея, поскольку я тебя шустрее».
— Вообще-то я Джозеф. Папа был Левой, на старости стал Левисом, так что называйте меня Иосиф Львович. Очень просто и почти по-русски. Иосиф Львович Розэн, — представился маленький пепельнолицый человек в дымчатых очках с очень тонкими, прямо-таки балериньими руками и совершенно крошечными ножками, обутыми в остроносые туфли крокодиловой кожи. — Давайте вместе пообедаем? Я бы с радостью пригласил вас в «Сакуру»...
— Вы меня в Панаме пригласите, — ответил Степанов. — Здесь я хозяин. Так что кормить буду я, и не в «Сакуре», а в «Национале», там отменная русская кухня, едем...
— Да, но у меня назначена встреча в «Станкоэкспорте» с моим русским директором! Точнее говоря, содиректором, ведь наша компания смешанная...
— О чем разговор, приглашайте содиректора, — Степанов кивнул на телефон, стоявший на стойке у администратора отеля, в котором жил Розэн.
— Да, но ведь это служебный, — так же вкрадчиво проговорил Розэн, — неудобно...
— Вы чего такой осторожный? — улыбнулся Степанов; обернулся к администратору, представился (вообще-то не любил, нескромно это, но еще обидней, если обхамят при американце. На то, чтоб пуд соли съесть, время потребно, но ведь иностранец на неделю приезжает, из того, с чем столкнется за это время, сложится впечатление, они ж быстры на выводы), спросил разрешения позвонить; администратор (видимо, из отставников, службист, воспитанный) разрешил, осведомившись при этом, над чем сейчас работает Степанов, что нового следует ждать в журналах, совсем пустые, обидно, читать нечего, а ведь такие богатые традиции и вопросов нерешенных масса (говорил рублено, командно, будучи, вероятно, уверенным в том, что Розэн тоже русский, — шпарит-то без акцента, только голову то дело втягивает, совсем как черепаха, и лицо то каменеет, то расходится в улыбке).
В машине уже Розэн сказал, что его содиректора зовут Паша, он великолепный инженер, очень скромный человек, в Панаме в него все влюблены, прекрасно говорит по-испански и по-английски, совсем молод, а жена сплошное очарование, нет слов.
Паша понравился Степанову сразу же, потому что он и представился легко, — «зовите меня Пашей, я молодой еще, набудусь Павлом Ивановичем», — и улыбка у него была застенчивая, и слушал он вбирающе; иные молодые ныне приписали себя к критическим ниспровергателям, полны снисходительного юмора и скептической грусти; смешно, поскольку возрастные границы сдвинулись, раньше про двадцатишестилетнюю красавицу Пушкин писал, что мол, старуха, а сейчас пятидесятилетние женщины — те, которые умеют держать себя, — напропалую крутят романы, и шестьдесят лет для мужчины считается — порою по праву — временем расцвета.