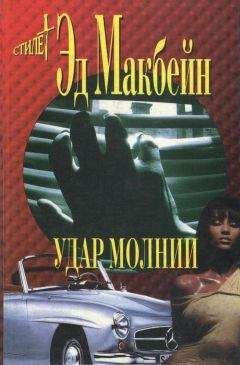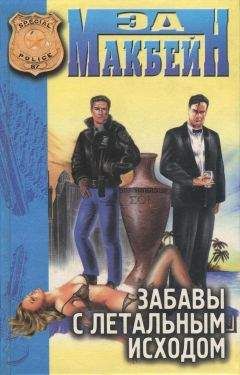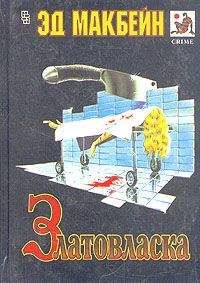— Да, привет, — ответил Уоррен. — Миссис Кодлоу, пожалуйста.
— Кто говорит?
— Уоррен Чемберс.
— Могу ли я передать ей, в чем заключается ваше дело, сэр?
Он ненавидел, когда с ним так обращались. Сестры в офисе докторов были самыми ярыми сторонниками такого обращения. Вы звоните доктору потому, что хотите поговорить с доктором, а не с какой-то медсестрой, которая хочет прежде выяснить, в чем дело.
— Я бы хотел лично поговорить с ней.
— Одну минуту.
Он снова ждал.
— Стюарт Инглэнд, — ответил деловой голос.
— Я хотел поговорить с миссис Кодлоу, — сказал Уоррен.
— Миссис Кодлоу у телефона.
Он точно слышал, как она заявила по телефону «Стюарт Инглэнд», но все же начал разговор.
— Это Уоррен Чемберс. Я занимаюсь расследованием, я работал с Мэттью Хоупом…
— Да, Боже мой, как он? Я видела новости по телевидению прошлой ночью. Что, ради всего святого, произошло?
— Ну, как вы знаете…
— Я разговаривала с ним только в прошлый понедельник. Что…
— Именно поэтому я…
— …Могло привести его в Ньютаун в такое время, ночью?
— Я знаю, что он собирался позвонить вам…
— Да, он позвонил.
— О чем он с вами разговаривал, миссис Кодлоу?
— Ну, он знает, что я преподаю историю Англии… Мой муж и я, мы с ним встречались в обществе, вы знаете, с ним и со Сьюзен. На самом деле, мы хорошо знали их до того, как они разошлись. Я поняла, что он думает, что мне известно что-то о «лавлокс».
— Простите, что-то о…
— «Лавлокс».
— Что?.. Извините меня, миссис Кодлоу, но я не понимаю, что значит «лавлокс»?
— «Лавлокс» была модной мужской прической в семнадцатом столетии. То, как мужчины укладывали волосы.
— Волосы?
— Да. Этот стиль стал популярным в Англии после того, как Джеймс Первый… Я преподаю историю Англии периода Стюартов, понимаете…
— Понимаю.
— С 1603 по 1710 годы.
— Понимаю.
— Джеймс Первый отращивал локон с левой стороны головы; он был гораздо длиннее, чем остальные волосы. И вот его-то и назвали «лавлок». Его зачесывали вперед от шеи, и обычно он небрежно висел перед плечом. Некоторые мужчины украшали его лентой, завязанной бантом. Это было очень модно.
— Я понимаю. И… Мэттью позвонил, чтобы спросить об этом…
— О «лавлок», да. Писатель-пуританин Уильям Прайн подробно описал этот стиль. Он назвал это «Анлавлинесс оф лавлокс». Вы хотите послушать, что он написал?
— Ну… ух… да, — пробормотал Уоррен.
— Я цитирую дословно: «Бесконечно много греховных, странных и ужасных черт тщеславия, которые вызвал наш беспокойный, фантастический, гордый, суетный, праздный, изнеженный, распутный век во всех уголках мира…»
— …Да, но в самом деле что он чувствовал?
— В самом деле, — миссис Кодлоу по-девичьи рассмеялась, — он продолжал: «В данный момент мне хотелось бы выделить одну греховную, позорную и неподобающую черту тщеславия, овладевшую ими, которая в последнее время правит так многими женообразными, бездарными, безнравственными и хвастливыми представителями нашего славного мужского пола, более славного пола; старательно отращивая неестественные и некрасивые локоны, или „лавлокс“, как они их называют. Эти „лавлокс“ — порождение самого дьявола!» Он писал таким образом на шестидесяти трех страницах.
— Мэттью не объяснил вам, почему он хочет знать об этом стиле прически?
— Ну, по-видимому, он выполнил свою домашнюю работу перед этим.
— Какую домашнюю работу?
— Мне показалось, что он был в библиотеке. Он сказал мне, что знал городок в Неваде под названием Лавлок и что таково было имя тридцатидевятилетнего велосипедиста-победителя Олимпиады, который был убит…
— Убит? — сразу же насторожился Уоррен.
— Да, под поездом сабвея в Бруклине. В 1949 году. Его полное имя было Джон И. Лавлок…
— Ага! — воскликнул Уоррен.
— Простите?
— Его заинтересовало ее второе имя.
— Простите, что…
— Он хотел проследить происхождение ее второго имени. Лавлок. Это чье-то второе имя.
— Разве?
— Да. Женщины, с которой он встречался накануне.
— Я понимаю, — сказала она, но ее интонация явно говорила, что она не совсем понимает слова Уоррена. — Во всяком случае, он позвонил мне, потому что обнаружил ссылку на слово «лавлок», и он хотел побольше узнать об этом. Он вспомнил, что преподаю историю времен Стюартов…
— Да, да.
— Он подумал, что я могу что-то знать об этом.
— И вы знали.
— Да. Знаете, у истории есть свои забавные стороны. Кроме того, ссора Джеймса с пуританами приобрела огромное историческое значение.
— Итак, что вы сказали Мэттью…
— Я не имела ни малейшего понятия, что он хочет проследить происхождение имени…
— Да.
— Я просто объяснила, что такое лавлок.
— Вы сказали…
— Я сказала, что это разновидность локона. Прядь длинных вьющихся волос.
— Локон, — повторил Уоррен.
— Да. Очень просто, локон.
Блум впервые встретил Мэттью Хоупа прямо здесь, в кабинете на третьем этаже того здания, которое в городе Калуза сдержанно называли Домом Общественной Безопасности. Это — главное полицейское учреждение. Здание его было сооружено из бурых кирпичей разного оттенка, его строгий архитектурный фасад нарушали только узкие окна, напоминающие бойницы в крепостной стене — неплохое нововведение для такого климата, как во Флориде.
Вы вступали в здание через бронзовые входные двери и поднимались в приемный холл третьего этажа, где от пола вздымался, слово перископ увеличенных размеров, окрашенный в оранжевый цвет подъемник для почты. Вы говорили одетой в полицейскую форму служащей, сидящей за столом, что вы хотите поговорить с детективом Моррисом Блумом, и она звонила ему с помощью недавно установленного оборудования «Центра связи» на ее столе, а затем говорила вам, чтобы вы проследовали по коридору в кабинет в дальнем конце. Там и был Блум, плотно сложенный мужчина лет сорока пяти, ростом выше ста восьмидесяти пяти и весом, после его недавней поездки на север, около ста килограммов.
В тот день, когда Блум впервые встретился с Мэттью, он, если ему не изменяет память, был одет так, как одевался почти всегда: в помятый синий костюм, неглаженную белую рубашку с синим галстуком. Но в целом складывалась картина портновской элегантности; именно так он выглядел после того, как спал в одежде накануне ночью. Возможно, в тот раз он весил на несколько килограммов больше, но лисье лицо его оставалось тем же, то же самое относилось и к его носу, по которому словно несколько раз приложили кирпичом, к его кустистым черным бровям и темно-карим глазам, которые придавали ему такой вид, словно он вот-вот заплачет, даже тогда, когда он не чувствовал себя особенно опечаленным, — дурная слабость для копа.
Но в утро этого вторника он и в самом деле чувствовал себя особенно печально, потому что он только что позвонил в больницу, и ему сказали, что состояние Мэттью Хоупа «стабильное, но критическое», а это черт знает что означало. Теперь он сидел и ждал человека по имени Эндрю Вард, поглядывая на часы, — тот должен объявиться здесь через пять минут — и припоминал самые первые слова, которые Мэттью сказал ему: «Я юрист, и я знаю свои права».
Блум знавал множество уличных бродяг, которые тоже знали свои права, поэтому он нисколько не размяк от того, что этот, особенно привередливо сознающий свои права, человек оказался юристом. Юрист он или нет, однако в ночь накануне их первой встречи Мэттью Хоуп спал с женщиной, которая впоследствии была забита до смерти.
— Что ж, мистер Хоуп, — сказал тогда Блум, — как я понимаю, технически вы находитесь здесь под стражей, и я обязан сообщить вам о ваших правах. Я являюсь полицейским офицером вот уже двадцать пять лет, и ни от чего иного у меня так не свербит задница, как от растолковывания этих самых прав. Но если я чему-либо и научился относительно допросов, так это что лучше перестраховаться, чем потом сожалеть. Поэтому, если вы не возражаете, я сейчас отбарабаню вам ваши права, и мы перейдем к делу.
— Пожалуйста, если от этого вам станет легче.
— Ни от чего, связанного с убийством, мне не становится легче, мистер Хоуп, но по крайней мере если мы с этого начнем, то все будет следовать в соответствии с требованиями от Верховного суда. Хорошо?
— Прекрасно.
Отвратный тип, подумал Блум. Однако в какой-то момент по ходу допроса его мнение изменилось. Переведя дух, он спросил:
— Так вы говорите, что она была жива, когда вы покинули ее, так?
— Еще как была жива!
— Я думаю, возможно, и была. Мистер Хоуп, — сказал он, — ту линию, которой вы придерживаетесь, Эрнст Хемингуэй называл детектором, встроенным в дерьмо. Вы знакомы с Эрнстом Хемингуэем? Писателем?