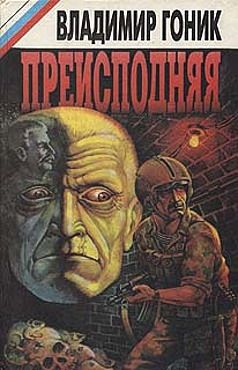Похоже было, его постоянно гложет какая-то тревога, изводит мучительный зуд - ест и не дает покоя. Буров не находил себе места, беспрестанно ерзал, озабоченно озирался и, волнуясь, подозрительно поглядывал за окно. Какая-то жгучая мысль терзала его неотвязно, изнуряла и сжигала дотла.
Буров был не молод уже - за тридцать, носил бороду, на темени сквозь редкие светлые волосы просвечивала мягкая розовая плешь, он ходил в неизменной черной рубахе, черные брюки заправлял в тяжелые кирзовые сапоги, на плече у него, как у странника, висела холщовая торба.
Он был бледен всегда, однако на бледном лице странным образом выделялись глаза: они горели постоянно, как будто какая-то неистовая догадка осенила его и распаляла изо дня в день.
В глазах полыхал огонь сокровенного знания, словно он постиг что-то, что другим не дано, один познал истину, недоступную остальным, она горела в его глазах - горела и не иссякала.
Даже ночью, похоже, он не знал угомона, ворочался беспрерывно, и Ключникову казалось, что огонь его глаз прожигает темноту.
Впрочем, так и было на самом деле, одна мысль не давала ему покоя и не отпускала ни на миг: Буров постоянно думал о евреях. Мысль о всеобщем, всемирном заговоре давно овладела им, захватила и не отпускала ни на миг. Истина заключалась в их кромешной вине: все, что происходило в мире дурного, Буров связывал с евреями - войны, голод, катастрофы, рост цен, аварии, стихийные бедствия были делом их рук. Даже лампочки перегорали часто, потому что евреи подло меняли напряжение в сети.
Он был убежден, что ничто в мире не происходит само по себе, случайно, без их участия: стоило только получше разобраться, найти концы, размотать, и обязательно отыщется еврейский умысел. И Буров постоянно пребывал в поиске, искал и связывал между собой множество разрозненных фактов, случаев, событий, это занятие стало смыслом его существования: сокрушительный заговор пронизал и опутал весь мир, проник во все щели, и только он, Буров, мог распутать эту дьявольскую сеть. Шагу нельзя было ступить, чтобы не наткнуться на заговор. Буров повсюду искал тайные козни, искал и находил, ни о чем другом он не мог думать и говорить.
- Ты посмотри на школьные учебники, - призывал он Ключникова. - Их составили евреи, чтобы запутать русских детей. А война в Персидском заливе?
- А что война? - удивлялся Ключников. - По-моему, Ирак начал...
- Формально. Это только кажется. На самом деле за этим стоят евреи. Уж слишком им это было выгодно. Их обстреливали, они не отвечали. Выгодно, выгодно! Ирак и Кувейт - это только видимость!
- А доказательства?
- Докажу! Не могло без них обойтись, они устроили это чужими руками. Если им надо, они что угодно устроят. Ты заметил, как у нас стали топить?
- Плохо?
- Батареи холодные. Думаешь, случайно?
- Что, тоже евреи?
- А ты думал!
- Ну, это ты, брат, хватил! - засмеялся Ключников, который вообще весь разговор не принимал всерьез.
- Напрасно смеешься. Заморозить хотят. А на прошлой неделе жарили, дышать было нечем. В этом весь смысл: то жара, то холод. Изводят! Забастовки шахтеров евреи организовали. Это уже доказано.
- Кто доказал?
- Я! - Буров судорожно порылся в холщовой торбе и торжественно выложил лист бумаги с нарисованными кружочками, квадратами и треугольниками, соединенными стрелками. - Схема заговора! - глаза его сияли, излучая ослепительный неукротимый свет, и было понятно, что он ни перед чем не остановится, распутает любой заговор, всех выведет на чистую воду и предъявит счет.
Учился Буров неважно, свободное время съедала патриотическая деятельность. По его наблюдениям выходило, что все занятия, семинары, лабораторные работы, зачеты и экзамены в институте совпадают с митингами и собраниями патриотических организаций. Разумеется, учебное расписание было составлено с таким умыслом, чтобы затруднить патриотам участие, а его, Бурова, отвлечь, оторвать от движения.
- Расписание составляют евреи, - убежденно доказывал Буров.
Он принципиально не ходил на занятия, если сомневался в чистокровном происхождении преподавателя.
- Ты пойми, это как девственность: один раз сдался, и все, тебя нет. Но меня им не окрутить! - истово твердил он и стоял насмерть, храня свою непорочность.
К Бурову часто приходили друзья, соратники по движению. Что-то общее было в лицах, в глазах - какая-то неудовлетворенность, обида, недовольство, но вместе с тем заносчивость и высокомерие. Похоже, многих из них преследовали неудачи, жизнь не заладилась, не сложилась - то ли способностей не хватило, то ли усердия и характера, и они изуверились, но признаться себе в этом не доставало сил. Они были убеждены, что вина за неудачи лежит на ком-то другом - всегда легче, если виноват не ты сам, а кто-то, чужак. Да и кому охота признать себя посредственностью, неудачником, проще отыскать причину на стороне.
Порознь каждый из них чувствовал себя неуверенно, испытывал горечь. Стоило узнать, что причина в чужаках, как мгновенно наступало облегчение.
Порознь они страдали от одиночества, мыкались, терялись: зыбкость существования напоминала о себе что ни день. Лишь сбившись вместе, чувствовали они себя увереннее, росли в собственных глазах, подогревали друг друга и даже приобретали некую значимость, какой не знали в одиночку.
Да, порознь они находились наедине со своими горестями, невезением, проблемами, неудачами и не знали выхода, но вместе они были умны, красивы, талантливы, сильны, судьба благоволила к ним и сулила удачу.
Борьба с чужаками наполняла смыслом их существование, заполняла пустоту, жизнь становилась полнокровной и увлекательной - не то, что прежнее прозябание и маета. Не говоря уже о чувстве приобщенности к большому важному делу: ореол избранности окружал каждого из них.
Что Буров, что его друзья зазывали Ключникова к себе. До сих пор он отнекивался, отшучивался, ссылался на занятия, но по правде сказать, его не тянуло к ним. Он не знал, что изрядная доля людей предпочитает толпу, ее законы, нравы, повадки, только в толпе чувствуют они себя под защитой, только толпа придает им уверенности, принадлежность к толпе делает их ровней всем прочим - тем, кто живет сам по себе. Кроме всего прочего, что-то болезненно-сладкое заключалось для них в подчинении кому-то, в принадлежности к строю, к колонне.
Он не думал об этом и не знал, что некоторые люди испытывают странное влечение подчиниться кому-то и даже при жестоком обращении получают необъяснимое удовлетворение - чем жестче, тем полнее и слаще. Их влечет строгость, палочная дисциплина, даже мучаясь и страдая, они готовы к подчинению, мало того - испытывают удовольствие. Многих манит толпа. Желание слиться с ней, раствориться и действовать заодно, забыв и потеряв себя, поглощает их без остатка.
Ключников не умел думать об этом, однако неосознанная догадка удерживала его, как будто пойди он к ним, и сразу терял себя, становился толпой.
Все же они затащили его к себе, он отправился к ним из чистого любопытства.
6
Ночью глинобитный сортир освещала тусклая лампочка. Поднявшийся по нужде солдат должен был пересечь плац и по ночному холоду, от которого стыла грудь и зябко сводило плечи, дотащиться до сортира; обычно брели в трусах и сапогах на босу ногу, но до сортира мало кто добредал: ночной путник сворачивал за угол казармы и в темноте пристраивался у стены, хотя фельдшер за такое дело мог морду набить.
Денно и нощно фельдшер Епифанов пекся о чистоте и, напуганный вспышками дизентерии в соседних гарнизонах, в хвост и гриву гонял личный состав, а санинструкторам приказал не жалеть хлорку.
Ключников редко вставал ночью, но если вставал, честно тащился через плац в сортир. Сказывался порядок, заведенный с детства дома: в Звенигороде дощатый семейный скворечник располагался за домом в конце двора.
В одну из ночей он поднялся под утро, зевая, натянул сапоги, набросил на плечи телогрейку, и, как был в трусах, замороченно побрел на двор, по пути привычно захватив из пирамиды автомат.
Ключников сонно тащился через плац к темнеющему под деревьями сортиру, дорогу освещал слабый фонарь, горевший на крыльце у входа в казарму, за пределами тускло освещенного плаца темнота сгущалась и становилась твердой, как стена, скрывая склоны гор и окрестную панораму.
Впоследствии он неотрывно думал о том, что произошло, пытливо вопрошал себя о предчувствии, но как ни старался, ответа не находил: ни знака, ни знамения ему не было, даже малым намеком не уведомило его заранее Провидение.
В сортире в ту ночь было темно - то ли лампочка перегорела, то ли свет забыли включить, во всяком случае, темно было - глаз выколи. На пороге Сергей чиркнул спичкой, в кармане телогрейки у него всегда лежал коробок, пламя осветило пустое, похожее на станционный пакгауз помещение, длинную глиняную стену, под которой в ряд чернели круглые дыры. Спички хватило, чтобы сесть и спустить трусы, потом огонек погас, вокруг сомкнулась темнота.