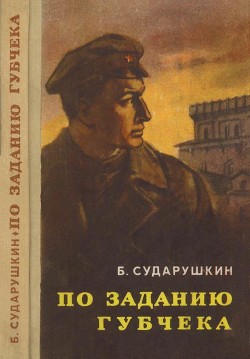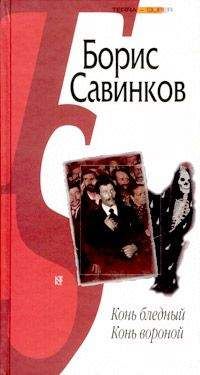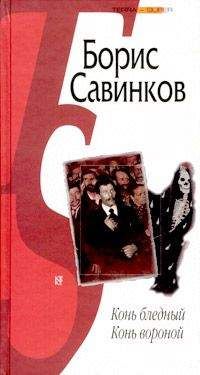— Диктатурой кого? — уточняет председатель суда.
— Это не было указано, — хитрит Савинков.
Понимая, что подобные ответы звучат неубедительно, все свое красноречие он употребил на заключительное слово, пытаясь снять с себя часть вины и переложить ее на обстоятельства. Перхуров делал это по-солдафонски неуклюже, позер Савинков, поднаторевший в словесной эквилибристике, действовал тоньше и расчетливей:
— Граждане судьи! Я знаю ваш приговор заранее. Я жизнью не дорожу и смерти не боюсь. Я глубоко сознавал и глубоко сознаю огромную меру моей невольной вины перед русским народом, перед крестьянами и рабочими. Я сказал «невольной» вины, потому что вольной вины за мной нет. Я безоговорочно признаю Советскую власть и каждому русскому человеку, который любит свою родину, я, прошедший всю эту кровавую и тяжкую борьбу с вами, я, отрицавший вас, как никто, говорю ему: если ты любишь свой народ, то преклонись перед рабочей и крестьянской властью и признай ее без оговорок…
Трудно сказать, насколько искренними были эти слова, но их тоже приняли во внимание, и приговор суда — расстрел — был заменен десятилетним заключением.
Через восемь месяцев после вынесения приговора Савинков написал Дзержинскому письмо:
«…Если вы верите мне, освободите меня и дайте работу, все равно какую, пусть самую подчиненную. Может быть, и я пригожусь. Ведь когда-то и я был подпольщиком и боролся за революцию. Если же вы мне не верите, то скажите мне это, прошу Вас, прямо и ясно, чтобы я в точности знал свое положение».
Работник ОГПУ, которому Савинков передал письмо, пообещал:
— Я передам его по назначению… Только вряд ли это поможет.
— Думаете, бесполезно?
— Я удивляюсь, почему вас не расстреляли.
— За мое заточение вы будете отвечать перед историей! — злобно выговорил Савинков.
Чекист промолчал, усмехнулся. Высокомерие и позерство Савинкова сначала удивляло его, теперь стало просто надоедать. Позвонил, чтобы за ним пришел конвой и препроводил его в камеру.
В комнате было душно. Савинков остановился возле открытого окна, выходящего на мощенный булыжником внутренний двор тюрьмы. С пятого этажа двор был не виден — только крыши и теплое майское небо.
Савинков подумал: стоит вскочить на подоконник, шагнуть… Невольно отступил от окна, представив, что будет дальше. Услышал, как по лестнице, гремя подкованными сапогами, поднимается конвой, который уведет его в камеру с зарешеченным окном. И, не в силах справиться с собой, сделал то, что сначала представил мысленно…
От прыжка до смерти у Савинкова было три-четыре секунды. Что можно вспомнить за этот краткий срок? Может, только одна мысль и успела промелькнуть у него, что с самого начала своей борьбы с Советской властью он летел вниз головой на камень, который ему не пробить.
«Правда в том, что не большевики, а русский народ выбросил нас за границу, что мы боролись не против большевиков, а против народа», — написал он за несколько дней до смерти своим бывшим сподвижникам, объявившим его предателем. Прозрение, если это было оно, пришло слишком поздно — наступило время расплаты…
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
1. Губчека
Когда начальник иногороднего отдела спросил, каким личным оружием Тихон владеет лучше, тот ответил не задумываясь — наганом.
Полюбился он ему давно, еще в Заволжском красногвардейском отряде, которым командовал старый рабочий Иван Резов. С наганом ходил на маевки в Сосновом бору, после революции с ним разгонял милицию Временного правительства, отстреливался от монархистов.
После мятежа, когда работал в Коллегии по борьбе с контрреволюцией, с наганом шел на банду Толканова, арестовывал офицеров-перхуровцев в Росове, патрулировал по ночам улицы Заволжья.
Надеялся Тихон и в губчека получить это надежное, испытанное оружие. Однако Лобов, открыв сейф, положил на стол автоматический девятизарядный пистолет системы Маузер с гравировкой и перламутровой инкрустацией на рукояти.
— Узнаешь? — кивнул он на пистолет. — У начальника перхуровской контрразведки в Волжском монастыре взял. Еще тогда решил: будешь работать в Чека — отдам тебе.
Тихон неуверенно взял пистолет. Плоский и гладкий, он удобно лежал в ладони, но покоробило, что принадлежал пистолет Сурепову.
— Может, мне лучше наган?
— Наган — оружие хорошее, но это посерьезней будет. Бери, пока я добрый, не пожалеешь.
Но Тихон по-прежнему смотрел на пистолет с сомнением.
— Сурепов из него наших людей стрелял, а вы его мне…
— Вон ты о чем, — протянул Лобов. — Служил контрреволюции — пусть теперь революции послужит. Последний раз спрашиваю — берешь или нет?
— Ладно. Может, за убитых Суреповым расквитаюсь.
— Вот это другой разговор, это по-мужски. Устройство знаешь?
— Сурепов рассказать не успел, — буркнул Тихон.
— Ну, тогда смотри…
Разобрав и собрав пистолет, Лобов показал, как его заряжают и разряжают, потом отпустил Тихона потренироваться наедине. А через час опять вызвал к себе и устроил настоящий экзамен:
— Сколько пружин в пистолете?
— Восемь: боевая, возвратная, двойная, спусковая, запорная…
— Хватит. Деталей сколько?
— Тридцать одна: ствол, кожух-затвор, магазин, рама, ударник, целик, отражатель…
Лобов перебил парня:
— Учиться бы тебе с такой памятью в Демидовском лицее.
— Сгорел лицей в мятеж. Да и не до учебы сейчас.
— Сгорел — новый построим, — Лобов вынул карманные часы фирмы «Лонжин», щелкнул крышкой: — Теперь разбери и собери, я время засеку.
Справился Тихон и с этой задачей. Достав из сейфа коробку с патронами, Лобов повел его в подвал — здесь чекисты устроили небольшой тир. От сырых, позеленевших стен тянуло холодом, выстрелы в узком и низком коридоре раздавались оглушительно, словно в металлической трубе.
Первый магазин выпустил Лобов — все пули попали в центр мишени.
— Ну, мне так не суметь, — завистливо сказал Тихон.
— Не научишься — тебя изрешетят. Враги у нас с тобой опытные, на живых мишенях обученные.
Лобов оставил коробку с патронами и ушел.
Первые пули почти все легли ниже мишени. Тихон зарядил еще магазин. Теперь пули ложились выше, но увеличился разброс. Из подвала поднялся, продрогнув до костей, когда фанерная мишень с черным кругом стала двоиться в глазах.
Вечером Лобов отвел его в Никольские казармы, где разместился чекистский отряд внутренней охраны ВОХР, устроил на ночлег. А утром их вызвал к себе Лагутин.
В кабинете председателя губчека голо, неуютно. На огромном письменном столе с зеленым сукном сиротливо стоит чернильница-непроливашка и блюдце с окурками, в углу квадратной комнаты — несокрушимый мюллеровский сейф, на нем фуражка со звездочкой.
За окном, выходящим во двор, дырявые крыши сараев, побитые шрапнелью кирпичные особняки, колокольня со сквозными проемами. На стене над столом от руки написанное объявление: «Рукопожатия отменяются», — в городе свирепствовал сыпной тиф. Однако «взаимное перенесение заразы», как писали в местной газете, продолжалось.
Вид у Лагутина озабоченный, широкоскулое лицо желтое от недосыпания. Когда, здороваясь, выходил из-за стола, сильно прихрамывал. Спросил начальника иногороднего отдела, не передумал ли он выпустить поручика Перова на свободу.
— Нет, не передумал, — твердо ответил Лобов. — А что случилось? — почувствовал он в вопросе какую-то недоговоренность.
— Казанские чекисты нашли протоколы показаний Барановской в штабе чехословацкой контрразведки. Она на первом же допросе рассказала о задании, которое ей дали здесь.
— Я был против вербовки Барановской.
— Почему же сейчас настаиваешь на подобной операции?
— Перов — честный человек, просто запутался.
— Гражданская война — это классовая борьба, а поручик — представитель враждебного класса, это надо учитывать в первую очередь! За случай с Барановской я с себя ответственности не снимаю, хотя инициатива была и не моя, а московских товарищей. И не хочу повторять эту же ошибку с Перовым.