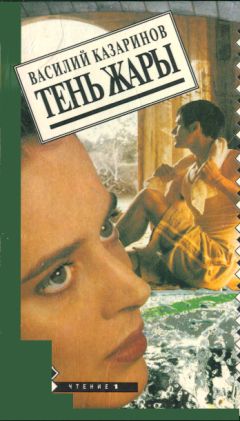Да, "Старка", прежний свирепый напиток, черный, терпкий.
Прелесть тогдашнего жанра состояла в отсутствии завязок и развязок; это было сплошное, вытянутое во времени и пространстве действие, сочная густая материя, сотканная из алкогольного пара, любовного пота и того особого блаженства, которое гарантировано при полном отсутствии мыслей, – так что повод той пьянки я теперь вряд ли вычерпаю со дна памяти. Зато отчетливо слышу во рту привкус: "Старка" и салат, салат и "Старка". Потом было шатание по улице, заползание в подъезд, трудное восхождение почти на четвереньках по лестнице, половичок у двери. Половичок и принял на себя извержение вулкана, его горячую лаву, состоящую из чистой "Старки" и салата "оливье". Кажется, я так и стоял – почти на четвереньках – пока дверь не отворилась. У порога возникли тапочки с опушкой, напоминающие собак болонок.
Пикантность ситуации состояла в том, что я, как потом выяснилось, не дополз до нужной мне квартиры и все случилось этажом ниже. Хозяйкой тапочек-болонок оказалась наша преподавательница древнерусской литературы, странная женщина, созданная из чрезвычайно хрупкого материала, из чего-то мимозного; она проросла откуда-то явно не из нашенской почвы и, скорее всего, отслоилась от порыжевших фотографий, где в позолоченных рамках стоят барышни на фоне парадных, мраморно-хрустальных, интерьеров женских гимназий... Она что-то говорила – не помню о чем, – но я чувствовал медленное увядание ее мимозного голоса.
Если когда-то в жизни я и испытывал чувство стыда, то это именно тогда, у ее двери. С тех пор я не выношу салат "оливье".
Мой визави повернул лампу.
– Здесь я командую, понял?..
Сначала я ничего не различал. Глаза привыкли, я опять увидел все то же: стол с лампой, два стула. Холодно, землей пахнет, могилой – я сразу, как только очнулся, догадался, что это погреб. Уютный пыточный погребок в каком-то загородном помещении.
Он встал, прошелся, размял суставы.
– Давай, колись! – в который уже раз повторил он. Рука нырнула за пазуху, в ней возник темный предмет. – Догадываешься?
Догадываюсь: газовый пистолет. Кажется, я уже испробовал на себе его действие.
Он приподнял дулом мой подбородок. Ствол холодный; неужели у него за пазухой – как в погребе?
– Слушай, ведь это мелочи, ерунда... Всего чуть-чуть информации по последним контрактам вашей лавочки. Всего-то...
– Я ж тебе говорил. Я к этому не имею отношения. Я вообще про эту контору впервые слышу.
– Ага! – засмеялся он. – Естественно! – и сунул мне под нос бумажный квадратик. – Тут про это написано на русском и английском языках.
У него моя визитка. И я в ней обозначен как консультант фирмы. Скверно. Надо как-то поменять тему разговора.
– Туг не видно хода светил... Сколько времени вы меня держите в этой яме? Сутки? Двое?
– Трое, – пояснил он. – И вообще, я с тобой затрахался, пора нам закругляться.
Значит, трое суток, если не врет.
Трое суток назад среди бела дня они сняли меня прямо на улице, неподалеку от метро "Красносельская". Я дожидался зеленого сигнала светофора, за спиной жужжала толкучка: тетки с авоськами, дамы, задумчиво закусывающие губу у ящиков с дорогостоящей хурмой, попугайская раскраска столиков с "колониальными товарами", ряды цветочников, шарканье сотен подошв, растерянное озирание по сторонам провинциала – меня аккуратно, без суеты, изъяли из этих шумов, запахов и движений.
На "зебре" притормозил стального оттенка "москвич", кто-то заломил мне сзади руки, впихнул в машину, в лицо ударила пушистая струя (газ? скорее всего...), в голове возникла качка – на этой плавной волне я и вынырнул из забытья здесь, в погребе, где мой тонкоротый собеседник желает получить конфиденциальную информацию. В противном случае он осуществит свои гастрономические фантазии, и мне в самом деле придется подыскивать должность евнуха.
А вообще-то он настроен серьезно *.[1]
– Мне надоело, – вздохнул он. – Ведешь ты себя кое-как... Жаль. А вроде неплохой парень... Сам-то я к тебе ничего не имею.
Я поерзал на стуле, пытаясь размять затекшие суставы. Он равнодушно следил за моими неловкими телодвижениями, вернее сказать, намеками на движения.
– В моем положении полагается последнее слово и последнее желание.
Он сплюнул, посмотрел на часы: "Ну? Быстрее, быстрее!" – прикурил, вставил сигарету мне в губы.
– Еще что-то?
– Да мелочь... Девушка, Алиса... Это что – тоже ваша "посылка"?
Он попробовал изобразить недоумение – неловко, слишком театрально, актер из него дрянной; впрочем, зачем ему? Ежели занят профессиональными заплечными делами, то актерский навык ни к чему, такие роли не играют на публике.
Значит, все-таки Алиса, эта милая "девушка с римских окраин" – их дела. Значит, я прав: для разведки неделю назад они послали ее мне для первичной, так сказать, проработки материала.
Надо отдать должное их вкусу – персонаж они подобрали очаровательный: формами она в самом деле ничуть не уступала тому типу женщин, какой принято называть "девушка с римских окраин" – и я сразу сделал ей комплимент*[2].
Я приготовился в красках живописать, что у нас было после обмена впечатлениями, но его рука прочертила в воздухе плавный полукруг, в лицо ударил знакомый запах, и я отплыл куда-то на плавной волне.
2Я отплывал из подземной гавани с легким сердцем и с надеждой: я выгребу, я обязательно выберусь, глотну свежего, пахнущего солью, водорослями и раскаленной галькой воздуха, я пообсохну на сухом горячем ветру, приду в себя, соберусь с силами и навещу Катерпиллера. Я навещу его в офисе: сперва набью ему морду, а потом мы за чашкой кофе побеседуем. Кое-что мне надо выяснить. Есть в перипетиях этого сюжета нечто такое, что мне выяснить необходимо.
Какое-то время я не смогу двигаться. Но мышцы отдохнут, я встану и выйду отсюда.
3Трудно сказать, сколько времени я пролежал без сознания – важно то, что именно пролежал. Я нашел себя на холодном полу; я уже не был привязан к стулу, это само по себе отрадный факт.
Первое, что услышал, – шуршание в углу. Наверно, мышка ходит. Или сам мышиный король, толстый и важный, печальный от обилия монаршьих забот – пусть себе томится в подполье, а нам пора наружу.
Я поднялся по косой лестнице, нащупал крышку. Уперся в нее спиной – крышка подалась, сдвинулась.
Он не запер меня – значит, предчувствие не обмануло: что-то в этом сюжете не так.
Я выбрался на свет; меня пошатывало, мутило. Некоторое время я пролежал на полу.
Дом выстужен, пахнет нежильем, чуланом – так характерно пахнут дачи, не согретые человеческим теплом. Комната обставлена скудно, небрежно, пожилой, отставного вида мебелью: промятый диван, монументальный, каменно-тяжелый шкаф, круглый стол, крытый газетой, пыльные газетки на окнах – приколоты к раме ржавыми кнопками; и тексты в полосах, наверное, того же качества, ржавые. Точно: Горбачев, Рыжков – побитые ржавчиной рудименты какой-то прошлой жизни, которой, кажется, и не было вовсе.
Из комнаты виден коридор на веранду. Слева крохотная кухонька, там двухконфорочная плита и холодильник "Саратов" – скорее всего, внутри ничего нет, кроме затхлого сундучкового запаха.
Верно: сундуком пахнет, плесенью и старыми заскорузлыми носками. Однако в этих запахах томятся и другие ароматы, еще вполне живые. Плоская коньячная бутылка, что-то завернутое в газетку.
Кусок сыра, чеснок, сало. Вот это вы напрасно!
Если прежде еще оставались иллюзии относительно последних событий, то теперь они растаяли окончательно: Катерпиллер, сука такая, проверял меня – сболтну я что-нибудь про их дела или не сболтну. Я не сболтнул.
Пожалуй, теперь я разрешу себе короткий отдых.
И пусть возле этого стола встанут на часы покой и сладкое беззвучие таких старых, доживающих свой век домов, где царствуют пыль и древние запахи, где под низким потолком бродяг тени воспоминаний о прошлых людях и прошлой жизни: о вползании в распахнутое окошко сиреневой ветки, о сочной клубнике на грядке, варенье из крыжовника; тут ночью объявит свой голос сверчок, а в трубе ухнет домовой, полистывающий на паутинном чердаке старые "Огоньки", и будет постанывать от прикосновения теней сухое дерево пола – я люблю этот воздух, эти звуки, они согревают... Через полчаса я заставил себя уйти от них.
День уже прочно встал на ноги и распрямился – в уютной дачной тишине, в чистых запахах сосны, последнего снега, в покрикивании дальней электрички – на этот скользкий, как будто из слюды сделанный голос железной дороги и надо идти.
Это был старый дачный поселок, с довоенной, скорее всего, родословной: плотные заборы стерегут основательные дома с просторными верандами. Большие участки, захламленные, забитые сорным кустарником, облезлые клумбы под окнами; все, что тут когда-то стояло, цвело, спело, созревало, теперь потихоньку преет, крошится, врастает в землю и, наверное, скоро истлеет совсем.