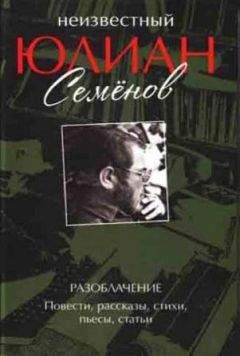Утром ветер по-прежнему трепал небо, но маленькой лодчонки возле меня не было. Я помолился за упокой души этого здорового, молодого и веселого янки и начал готовить себе завтрак... Прошло лет пять, и вдруг ко мне ночью, в Кохимаре, прибегают с почты, стучат в окно и говорят, что из Гаваны звонит какой-то важный американец, знаменитый корреспондент, и требует меня к телефону. Я никак не мог взять в толк, зачем я потребовался американскому корреспонденту - ведь раньше все янки сидели в <Тропикане> или в <Севиле>, и там пили джин, разбавленный водой, и тискали своих худосочных баб с голыми спинами, и слушали свою музыку, которую, страдая, играли наши ребята. <А как зовут того янки?> - спросил я. Мальчишка с почты ответил, что имя у него испанское, Эрнесто, и фамилия тоже испанская, точь-в-точь как название нашего города Камагуэй. Не знал я никакого Камагуэя. Ладно. На почту все же пошел и услышал в трубке писклявый голос - у Папы был совсем не мужественный голос, у всех настоящих моряков совсем не героические голоса. <Здравствуйте, кэп, я послал за вами машину, приезжайте ко мне, надо поговорить кое о чем>. Мне понравилось, что шофер отвез меня не в Ведадо, запретный район, где жили одни буржуи, а в старую Гавану, около Кавалерии, в бар маленького двухзвездочного отеля, и там за стойкой стоял тот янки, которого я обматерил в бухте Тортуга, и он сразу предложил мне выпить рома, а потом спросил, не хочу ли я с ним поработать: <Я намерен пожить у вас на Кубе всерьез и, если скоплю денег, думаю купить яхту>. Я ответил, что не стану у него работать, и он не обиделся и сказал, что <на трезво> беседа у нас не получится, и мы начали пить. Мы много пили в тот вечер. Папа вообще-то хорошо пил, он добрел, когда пил, и никогда не выдрючивался, как свинья на бечевке, не выказывал себя знаменитостью, не замечал подхалимов, что вертелись вокруг, и не сердился, когда я стоял на своем, отказывая ему: все-таки какой-то заезжий янки, куда ни крути, что у нас общего?! Я стал патроном его барки <Пилар> шесть лет спустя, когда узнал, к а к он воевал в Испании, в м е с т е с кем, з а ч т о и п р о т и в кого. Он ведь тогда мальчишка был - тридцать шесть лет всего, а мне - сорок, пора было остепениться, пора было начинать чувствовать не только море, но и людей только потому я пошел работать к Папе и теперь благодарен за это судьбе, потому что сеньор Хемингуэй <персона распекто де тодо мундо>*, и кто бы что бы сейчас ни говорил о нем, я всегда буду повторять: это был Человек, нет таких больше и не будет... Словом, я начал работать с ним и бывать у него в Сан-Франсиско ди Паула: он там построил второй дом, для тех басков, которые приехали с ним из Испании, от Франко. Папа кормил их, поил, одевал, давал деньги; он им словно брат был - ничего не жалел, а ему деньги нелегко давались, ох как нелегко. Это только такие люди, которые путают корреспондента с писателем, считают, что ему деньги с неба сыпались. Папа жил, когда писал свои книги, у него тогда лицо светилось и глаза были солнечные, а когда он готовился к книге, он пил или делал разные другие дела в ночных домах старой Гаваны, но не оттого, что был распущенным, а потому лишь, что готовился к новой работе. А к ней, говорил он, не подготовишься, если не отбросишь все старое и не почуешь к себе брезгливость - сколько времени зря уходит, а ты, паршивый расхититель того, что отпущено тебе одному и в чем ты, расхититель, ответствен перед целым светом, а не только перед сварливой бабой или глупым начальником, который хлещет втемную и галстук носит, несмотря на жару, чтобы всегда быть п р и л и ч н ы м...
_______________
* П е р с о н а р е с п е к т о д е т о д о м у н д о
самый уважаемый человек в мире (исп.).
- Вьехо, - окликнул Грегорио патрон Луис, - пойдем дальше или будем ставить таблеро здесь?
- Еще с милю я бы прошел, - ответил Грегорио, - только я бы взял на северо-запад градусов тридцать, не меньше.
Грегорио сказал это сразу же, почувствовав наше место в ночном море, не глянув даже на звезды - близкие здесь, дрожащие изнутри, переливно-зеленые, тревожные, будто множество самолетов зашло на посадку и кружит над огромным ночным аэродромом, жалостливо испрашивая у далекого диспетчера права на усталую посадку на воссоединение с планетой Земля...
Патрон Луис поправил курс не по навигационным приборам, разъединяющим человека с его <навыками противостояния природе>, а легким поворотом деревянного бруса, который на самом деле был <рулем> нашей барки, и сразу же ковш Медведицы сместился вправо, и зачерпнула невидимая рука углом этого звездного ковша парное, искристое море...
Грегорио положил недокуренную тобако на чуть вибрирующую крышку м а к и н ы - восьмицилиндрового движка нашей барки и пошел к ящику со снастью. Большие, рабочие, иссеченные шрамами пальцы Грегорио легко откинули крышку и осторожно, с ласкающей нежностью, прикоснулись к м а т р и н о - голубой леске, толстой, но легкой, рассчитанной на самых больших тибуронов.
- Песка модерна!* - белозубо улыбнулся патрон Луис. - Готов, старик?
_______________
* П е с к а м о д е р н а! - новая рыбалка! (исп.).
- Песка вьеха* лучше! Я готов, - ответил Грегорио, но не белозубо, оттого что спрятал свой великолепный, словно у американского актера, протез: во время лова тибурона всякое может случиться, с ним надо уметь драться изо всех сил, особенно если попадется тибурон-тигр или гальван, асуль, зорро, песмартийо - сколько их, этих акул, разве всех упомнишь?! А потерять, сражаясь с тибуронами, то, что позволяет тебе бесстрашно улыбаться, что позволяет тебе не считать себя стариком, глянув в зеркало, это никак нельзя. Когда человек считает себя стариком, он хочет вызвать жалость к себе, а жалость всегда соседствует со снисхождением, а море этого не принимает, оно принимает только равных себе, остальных - губит.
_______________
* П е с к а в ь е х а - старинная рыбалка (исп.).
- Начали, - сказал патрон Луис.
Хуан, макиниста, сразу же сбросил обороты двигателя; Томас зажег н е ч е р о - фитиль, укрепленный в большой лампе, залитой нефтью; лампу эту, в свою очередь, он укрепил в т а б л е р о - крестовине поплавка, сделанной из пенопласта, стремительно передал ее Луису, тот сноровисто бросил этот свет в море, а следом зашвырнул крюк с нанизанными макрелями, а Грегорио ловко опустил п о й а - буй, а потом стремительно вернулся к леске, которую он пропускал сквозь ладони, чтобы не было, сохрани бог, узелков.
- Песка вьеха! - крикнул Грегорио молодым голосом, нагибаясь то и дело над ящиком со снастью, ликующе оправляя ее, колдовски, упоенно ею командуя, этой громадной восьмикилометровой снастью, подчиненной сейчас его натруженным, большим рукам, его глазам, которые не знают, что такое очки, его опыту, который - если только он истинен, а не придуман - не знает возраста.
- Песка модерна! - рассмеялся патрон Луис, задавая работе ритм; он был сейчас словно метроном на черной плоскости рояля - такая же страстность, загнанная внутрь, такое же внешнее спокойствие, трагичная маска безучастности на лице и достойный артистизм в выражении своего ремесла.
Семьдесят минут шла эта стремительная, изматывающая, слаженная работа: факел в руках Томаса, наживка - у патрона Луиса, буй - у Грегорио; факел Томаса, наживка Луиса, буй Грегорио - и так до жуткого четко, и это было бы автоматично, а следовательно - некрасиво, если бы патрон Луис то и дело не восклицал:
- Вьехо, не замотай нас всех своей скоростью!
А Грегорио отвечал:
- Мой дорогой маленький Луис! Ленивым можно быть на плайа, когда загораешь под январским солнцем, но ленивым нельзя быть в кровати и на море!
Томас шепнул мне:
- Сейчас он поддаст нам жару...
И действительно, Грегорио крикнул Хуану, макиниста:
- Прибавь оборотов!
И тот прибавил обороты, и леска зажужжала сквозь ладони Грегорио еще стремительнее; то и дело плюхались лампы в море, разбиваясь на сотни звезд; чертили алюминиевую кривую макрели, нанизанные на кованые острые а н с у э л о - крючки для тибуронов, стремительно прорезая темень, и Старик громко и ликующе кричал морю:
- Песка вьеха мехор!*
_______________
* П е с к а в ь е х а м е х о р! - старинная рыбалка лучше!
(исп.).
Потом, когда вся снасть была заброшена, и в море зажглись сорок четыре новые звезды - это наши факелы вписались в отражение мироздания, и патрон Луис начал мыть бак (они до невероятия чистоплотны, эти кубинские рыбаки, они атакующе чистоплотны), Хуан впился в бинокль: рыбаков часто похищают пираты, получающие оружие из секретных фондов ЦРУ. Томас начал жарить рыбу в соевом масле, кипевшем на газовой печке, а Грегорио, отхлебнув рома, сказал:
- На факеле номер двадцать четыре будет тибурон.
- Почему? - спросил я.
- В том месте перепад глубин, - ответил Грегорио. - Там идет подводный риф, а потом начинается глубина, тибуроны любят эти перепады.