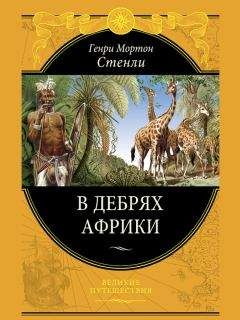– Дело сугубо личное, Эйбл, – продолжал Майлс и, кивнув доктору Маасу, который смотрел на них с интересом, добавил:
– Поэтому, надеюсь, доктор Маас нас простит.
– Разумеется, разумеется, – быстро отреагировал доктор и, продемонстрировав Майлсу свой стакан, прибавил:
– А насчет выпивки, мистер Оуэн, вы правы. Выпивка отличная.
Пробравшись сквозь толпу через комнату, Майлс вошел в библиотеку, Эйбл – за ним. Когда дверь библиотеки закрылась и зажегся свет, почувствовалась сырость, прохлада – Майлс поежился. В камине лежали тонкие щепки, и он не гасил спичку до тех пор, пока огонь не разгорелся и дерево не затрещало. Потом зажег сигарету, глубоко затянулся и с удивлением вынул ее изо рта: она была безвкусной. В недоумении он провел языком по губам – и снова вкуса никакого. Потом затянулся еще раз и бросил сигарету в огонь. “Спиртное, – подумал он, – а теперь еще это. Может, доктор Маас и разбирается в фрейдистских комплексах, но в понедельник утром нужно пойти к нормальному доктору и с ним посоветоваться. Хорошенькое дело – перестал чувствовать! Беда, может, и невелика, но все равно”.
Эйбл стоял у окна.
– Посмотри, какой туман, а? Помню, были мы с “Фатом” в Лондоне, захотели посмотреть город, но так ничего и не увидели. Сквозь пелену приходилось буквально продираться.
Густой туман неторопливыми волнами накатывался на улицу; отовсюду тянулись влажные нити, и там, где они касались окна, капельки воды тоненькой струйкой стекали по стеклу.
– Пару раз в году здесь такое бывает, – с раздражением выдавил из себя Майлс. – Но я привел тебя сюда не для того, чтобы говорить о погоде.
Эйбл отвернулся от окна и с неохотой уселся в кресло.
– Догадываюсь, что нет. Хорошо, Майлс, так что тебя волнует?
– “Засада”, – ответил Майлс. – “Засада” – вот что.
Эйбл устало кивнул.
– Несомненно. Несомненно. И что именно? Твоя фамилия в афише? Она набрана огромными буквами. Реклама? Только назови время – и пойдет по любой программе. Помнишь, что я обещал тебе после премьеры, Майлс?
Только скажи – я все сделаю.
Майлс вдруг обнаружил, что эта сцена ему нравится, а вообще он их ужасно боялся.
– Интересно, – ответил он. – Но ведь ты еще ни слова не сказал о деньгах, не так ли? Во всем твоем замечательном монологе ни единого слова, я же не мог прослушать, правда?
Эйбл откинулся на спинку кресла и вздохнул как человек глубоко оскорбленный.
– Я знал, что к этому придет. Хотя я и плачу тебе в два раза больше, чем любой другой звезде, я знал, что этим кончится. Итак, на что ты жалуешься?
– По правде говоря, – ответил Майлс, – ни на что.
– Нет?
– Совсем ни на что.
– Тогда чего же ты хочешь? – снова спросил Эйбл. – В чем дело?
Майлс улыбнулся.
– Ничего не хочу, Эйбл. Просто я заканчиваю. Заканчиваю играть.
Майлс несколько раз наблюдал Эйбла в критических ситуациях и мог легко предсказать, что сейчас произойдет. Лицо Эйбла превратится в бесстрастную маску, рука станет искать спички, ноготь указательного пальца, дрожа, извлечет из спички пламя, затем последует тщательно отрепетированная затяжка остатком сигары, и спичка будет изящно брошена на пол. Сцена повторилась, только спичка неожиданным усилием осталась зажатой в руке, а затем Эйбл начал медленно вертеть ее между пальцами.
– Твои шутки хороши, Майлс, – промолвил он наконец, – но не эта, а?
– Я заканчиваю играть в “Засаде”, Эйбл. Вчера был мой последний выход. Значит, у тебя есть целый завтрашний день, чтобы подыскать мне на понедельник замену.
– Какую замену?
– Но ведь у тебя есть Джей Уэлкер, не так ли? Он мой дублер уже пять месяцев, только и ждет, когда я сломаю ногу.
– С Джеем Уэлкером “Засада” не протянет и недели, ты же знаешь, Майлс. И ни с кем не протянет, кроме тебя, и ты это тоже знаешь. Эйбл наклонился и, все еще не веря, покачал головой. – Знаешь, но тебе наплевать. Хочешь снять самый удачный бродвейский спектакль – пусть все летит к чертовой матери, а?
Майлс почувствовал, как его сердце бешено застучало, а голосовые связки напряглись.
– Подожди-ка секунду, Эйбл, не ругайся. Мне странно одно: ты ведь даже не спросил, почему я это делаю. Видишь, в каком я состоянии, может, через час я вообще умру, но тебе же наплевать – лишь бы шел твой спектакль! Об этой стороне ты подумал?
– О какой еще стороне? Я там был и все слышал: доктор сказал, ты в отличной форме. И что мне сейчас делать? Брать заключение в Медицинской ассоциации?
– Ты думаешь, это просто каприз?
– Не считай меня дураком, Майлс. Пять лет назад ты поступил так с Барроу, после этого сделал то же с Голдсмитом, а в прошлом году – с Хауи Фримэном. Мне ли не знать, ведь так я и заполучил тебя в “Засаду”. Но все это время я считал, что они просто не умели с тобой обращаться, не понимали, чего ты стоишь. Но теперь вижу: они целиком и полностью правы, а я – я погнался за славой. Меня же предупреждали: сначала все пойдет прекрасно, а потом тебе моча в голову ударит – так и произошло. Ты сказал “каприз”, а я называю это по-другому, пусть и грубо, но в самую точку. – Эйбл на секунду умолк, а затем продолжал: Но разница между ними и мной, Майлс, в том, что я не привык рисковать.
Вот почему я и заключил с тобой долгосрочный контракт – до меня ты таких не имел. И, по-твоему, тебе удастся его разорвать? Подумай-ка еще, друг мой.
Майлс кивнул.
– Хорошо, – ответил он хрипло. – Я думаю. И знаешь о чем?
– Все в твоих руках, друг мой.
– Думаю о восьми спектаклях в неделю, Эйбл. Восемь раз в неделю я произношу одни и те же реплики, делаю одни и те же шаги по сцене, строю те же гримасы. И так уже пять месяцев – да ни один твой спектакль в жизни столько не шел, а он может идти еще пять лет! Но сейчас для меня это стало кошмаром: все повторяется и повторяется – и не видно конца. Но тебе наплевать, потому что ТЕБЕ это нравится. Тебе, но не МНЕ. Сижу как в тюрьме – и никакой надежды из нее выбраться. Но вот появилась возможность, и что ты скажешь? Останься – и привыкнешь?
– Тюрьма! – закричал Эйбл. – Да такую тюрьму люди спят и видят!
– Послушай, – продолжал Майлс, решительно наклонившись вперед. Помнишь, сколько раз мы репетировали эту сцену на кухне? Десять, пятнадцать, двадцать? Знаешь, что мне тогда показалось? Что попал прямо в ад, где придется ее играть до бесконечности. Да, так я представляю себе ад, Эйбл: приятненькое местечко, где без конца делаешь одно и то же, и даже с ума не дадут сойти – испортишь им все удовольствие. Видишь? Значит, видишь и мое отношение к “Засаде”.
– Вижу, – ответил Эйбл. – Но еще вижу в своем сейфе один маленький контракт. Если ты называешь адом несколько репетиций одной сцены, то посмотрим, что ты скажешь в “Эквити” <Профсоюз актеров> – там к этому отнесутся по-другому.
– Не пытайся меня запугать, Эйбл.
– Запугать, черт возьми! Да я тебя засужу – и при этом еще и разорю. Я это совершенно серьезно, Майлс.
– Может быть. Засудить больного, который не может больше работать, каково?
Эйбл понимающе кивнул и неумолимо продолжал:
– Я знал, что ты все так и подашь: ты – больной, следовательно, я злодей. – Его глаза сузились. – Вот он, ключ. К сегодняшней сцене с потерей сознания у входной двери: знакомый доктор и двенадцать свидетелей подтвердят. Вынужден признать, Майлс, сыграно здорово, но на моей стороне будут не искусно разыгранные мизансцены и врачи-шарлатаны, а нечто более существенное.
Майлс с трудом подавил в себе закипевшую ярость.
– Ты считаешь, что это была мизансцена?
– Где мизансцена? – игриво спросила Гарриет Тэйер: они вместе с Беном стояли у двери и с веселым любопытством смотрели на него.
Нелепая пара: худющий и высоченный Бен и впереди него маленькая и хрупкая Гарриет; их навязчивое провинциальное дружелюбие давно уже действовало Майлсу на нервы. – Ужасно интересно, – добавила Гарриет. Пожалуйста, продолжайте.
Дрожащей от волнения рукой Эйбл указал на Майлса.
– Я-то продолжу, а вот он... Да знаете ли вы, что наш друг больше не собирается играть в “Засаде”? Может, вам удастся заставить его изменить свое решение.
До Бена все еще не доходило, и Майлс в который раз изумился: а ведь этот жираф написал в “Засаде” несколько вполне приличных реплик!
– Но это невозможно, – изрек наконец Бен. – У вас контракт до тех пор, пока пьесу не снимут.
– Конечно, – с ехидством продолжал Эйбл, – но ведь он же болен.
Грохается в обмороки. И вы это видели, а?
Гарриет тупо кивнула.
– Да, но никогда не думала...
– И правильно, – перебил ее Эйбл. – Потому что все липа. Ему просто надоело делать все эти деньги и читать о себе все эти статейки. Потому он и решил спектакль свернуть. Вот так. Просто взять и свернуть.
Майлс ударил кулаком по ручке кресла, в котором сидел Эйбл.
– Хорошо, – сказал он. – Теперь всем все ясно, но у меня все-таки есть один вопрос: “Засада” – хорошая пьеса? И если так, почему ее жизнь зависит от одного актера? А вам не приходило в голову, что пьеса-то дрянь и что смотреть-то ходят не ее, а меня в ней? Да если я даже буду читать “Бармаглота”, на меня все равно пойдут! Так как же можно актеру моноспектакля приказать играть, когда он сам этого не хочет!