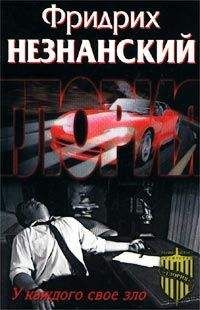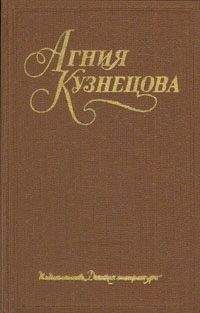— Чашечку? — переспросила Алла, тыча пальцем с массивным золотым колечком в сторону поллитровой фаянсовой кружки. — Вот эту бадейку вы называете чашечкой?! Знаете, Антон Григорьевич, я просто обязана буду доложить обо всем вашему лечащему врачу. Думаю, он отменит мои визиты. Какой смысл в наших уколах, если вы так себя ведете? Нам до завершения курса всего ничего, а вы… Или, может, вы хотите в больницу?
— Не приведи господь! — замахал на нее руками больной.
— Ну вот, видите, — мягко сказала Алла, — не хотите. Значит, слушайтесь меня, и все будет хорошо. Курс завершите — станете как огурчик, хоть жени вас. И ревматизм ваш пройдет — если, конечно, будете слушаться, снова повторила она, строго сводя брови.
— А вы сами-то замужем, Алла? — как-то не совсем по делу спросил вдруг больной. — Небось учитесь сейчас, врачом хотите стать? Послушайте меня, старика. Выходите вы замуж, пока молодая, свежая, пока охота есть. А опоздаете… Потом, знаете, как-то все это меняется, становится совсем все иначе — на себе проверил… А хотите, я вас познакомлю с одним… кавалером? Сейчас вот придет мой племянник Ярослав… Красивое имя Ярослав, правда? Думаю, он вам вполне может понравиться…
— Что вы такое опять говорите, Антон Григорьевич! — Алла даже руками всплеснула укоризненно, хотя он видел по ее глазам, что это неожиданное предложение вызвало в ней какой-то интерес — тут его старый наметанный глаз ошибиться не мог: возник, возник интерес. Но она завершила все так же строго: — Давайте не будем говорить о посторонних вещах!
Старик словно не слышал ее.
— Какая же вы красивая, Аллочка… особенно когда сердитесь. — Краснов невинно улыбнулся и словно бы ненароком погладил ее по обнаженному запястью. — Ей-богу, ваша красота лечит меня лучше всяких уколов!
— Ну да, ну да, — засмеялась Алла. — Это вы, наверно, телевизора насмотрелись — там только и слышишь: красота спасет мир, красота спасет мир… Эх, если бы это было так, мы бы и хворей не знали, Антон Григорьевич! — Она деликатно, но твердо отстранилась от его прикосновения. — Вон у вас сколько тут красоты всякой, — повела она освободившейся рукой, — а вы все равно болеете… У вас тут прямо как в музее. Кровать эта… Картины… На кровати-то, поди, какая-нибудь Екатерина спала?
Антону Григорьевичу, похоже, этот ее интерес к вещам, которые его окружали, был словно елей по сердцу.
— Да нет, — лукаво ответил он, — Екатерина не спала. Вернее, спала Екатерина, да не та. Эта кровать — из городской усадьбы Дашковых, что ли… Да и картины эти… По большей части все это так, бутафория… А вот картинки — маленькие, как моя соседка Марья Олеговна говорит, — это да, это ценность. Вон, видите рисунки? Это Пикассо. Если верить первому владельцу был, знаете, во время оно один писатель, от которого даже книжек не осталось, — так эти картинки перепали ему за сущие гроши. Дороже всего из того, что висит на этой вот стенке — вы не поверите, — вон та акварелька. Вон, видите, офицер в бурке и папахе. Это, знаете ли, рисунок самого Михаила Юрьевича…
— Какого Михаила Юрьевича? — глупо спросила Алла, глядя на ту самую картинку, которая давеча почему-то показалась ей такой знакомой.
— А Лермонтов, Аллочка. Который «Белеет парус одинокий…» Проходили в школе? «Герой нашего времени», «Мцыри», «Бородино»… Я охотился за одной из первых публикаций «Героя» — по слухам, с пометками аж Николая Первого, а получил вот эту замечательную акварель… Жизнь нашего брата, коллекционера, сложная штука, милая барышня. А вообще-то, чтобы вам было хоть немного понятно, для меня вся эта красота на стенах не стоит и сотой части книжек, что стоят вот здесь, в красном шкафу… Вон, видите, огромная, кожаная? Это Библия Гутенберга — был такой самый-самый первый первопечатник на земном шаре… Ее нашли на развалинах разбомбленного Дрездена — чудом уцелела. Горела во время налета англо-американской авиации, многие страницы в ней сохранились лишь наполовину, на одной из крышек расписался чем-то острым наш солдат — зафиксировал тот факт, что дошел до логова зверя… А все равно этой книге цены нет. И вообще, каждая книга в моей коллекции — целый роман. За каждой — судьбы, трагедии, жизни…
— А мне показалось, — заметила внимательно слушавшая его все это время Алла, — что у вас там, в шкафу, только книжки о птицах…
Старик пытливо посмотрел на нее. Надо же, вроде и ходила-то к нему всего ничего: сделала укол — да и пошла, а вот надо же — сумела что-то и в шкафу разглядеть. Когда? Неужели успела порыться, пока он был в беспамятстве? Вряд ли, конечно же, просто по тиснению на корешках догадалась. Только слепой не сообразил бы… Он успокоился. Нет-нет, он не может вот так, по-стариковски, давать волю подозрительности. Как скупой рыцарь какой-нибудь, честное слово…
— Нет, это не так, хотя, вообще-то, есть в этом заветном шкафу целая полка книг о птицах и о животных. Их еще отец мой, царствие ему небесное, собирал, а я лишь по мере сил дополнил.
— Ой, это, наверное, так интересно — коллекционировать, да? — спросила Алла, глаза ее светились жадным любопытством.
— Это не то слово, — вздохнул Антон Григорьевич. — Для меня книги вся моя жизнь. Я даже не думал никогда, что это может оказаться такой сильной страстью, которая заменит все: и личную жизнь, да-да, и карьеру, и всякое иное счастье. Видно, во мне эта зараза уже сидела, передалась от отца. Я и всего-то хотел немного продолжить его дело — он, как я уже сказал, всю жизнь собирал редкие книги о птицах и животных… Он, знаете, был из торговой семьи, хоть и инженер, раньше такое бывало, и всю жизнь подражал кому-то — в хорошем, я считаю, смысле. Морозову, например, Мамонтову. Мечтал быть, так сказать, благородным собирателем. А потом, когда все перевернулось, он сделался как бы хранителем их заветов, хотя и время было уже не то, да и средства, сами понимаете. Да и вообще — кому они, казалось бы, нужны, эти книги, когда люди гибнут миллионами… Такой, знаете, был век — сплошные катаклизмы… Сначала массовая высылка интеллигенции из столиц, потом вообще — тридцать седьмой, потом война, особенно блокада Ленинграда — ах, какие ценности можно было приобретать вы не поверите! — за краюшку хлеба. За хлеб, за пачку папирос… А вообще, все эти годы знаете кому лучше всего было бы коллекционировать антиквариат — всякий, любой? Следователям НКВД, КГБ. Одна беда: народ это был по большей части дикий, полуграмотный, в искусстве мало что понимающий. Вот читали, наверно, в газетах про папку рисунков знаменитого художника Дюрера, изъятую из какого-то там немецкого Кунстхалле? Про папку, которую запросто привез в качестве трофея не то бывший капитан, не то лейтенант, не помню уж. Вы что думаете, это был армейский капитан? Да ничего подобного! Тот не всегда и привезти что-нибудь мог, хотя тогда трофеи растаскивали эшелонами. Ну, платьишко жене, аккордеон. А! — Антон Григорьевич махнул рукой. — Это был, конечно, доблестный чекист, особист — холодное сердце, горячие руки… Но вообще-то вы правы, Аллочка, — прервал он вдруг свой затянувшийся монолог, — коллекционировать замечательно интересно. — Было заметно, что он уже устал от разговоров. — Вот я просто вам рассказываю об этом, а сам чувствую, что выздоравливаю.
— Мне бы тоже, наверно, надо было заняться каким-нибудь коллекционированием, — кокетливо сказала Алла. — Да только вот у меня ни времени, ни, конечно же, денег…
— Не надо, Аллочка! Лучше просто живите, наслаждайтесь жизнью, пока молоды, здоровы! Знаете, молодой красивой женщине, как вы, многое дается просто так, за то, что она красивая. — И рассмеялся сам этому выводу: Надо же, с чего начал и чем кончил.
Алла засмеялась следом за ним. Потом, почему-то вздохнув, сунула в сумочку стетоскоп, решительно шагнула к двери.
— Ужас как я у вас засиделась! И все-таки до свидания, Антон Григорьевич. До завтра.
— До завтра, — все еще продолжая улыбаться, сказал он и снова крикнул на кухню: — Мариночка, проводи, пожалуйста, нашу гостью!
«Ишь ты, гостью!» — подумала Алла, когда дверь за ней захлопнулась и снова послышался скрежет — теперь уже закрываемых замков.
Марина сидела на кухне, как на иголках: она пыталась работать, но работа не шла — она ждала звонка Николая, человека, от которого зависела теперь вся ее жизнь, все ее надежды на будущее. Она дала ему на всякий случай и телефон дяди Антона, но что, если он не сообразит и будет звонить ей в их с матерью квартиру — такие недоразумения чаще всего и случаются, когда у тебя, кажется, все начинает идти на лад. И мать что-то, как на грех, задерживалась.
Неправильно было бы сказать, что, сидя на кухне, Марина совсем не слышала, что происходит в комнате. До нее доносились и кокетливые вздохи Антона Григорьевича, и русалочьи смешки Аллочки, которая сразу ей не понравилась быстрым, оценивающим, все замечающим, каким-то всезнающим взглядом. Трудно определять, чем именно не понравился тебе человек, которого ты видишь впервые в жизни. Вернее всего, и она этой стерве в белом халате не понравилась — уж ей ли, женщине, этого не почувствовать. Но еще больше создали ей дискомфорт слова Антона Григорьевича о том, что должен подойти Ярослав. Словно какая-то ревность кольнула ее. Давно ли все носились с этим мальчиком — как же, будущее математическое светило, компьютерщик. Теперь этот милый мальчик стал наркоманом, и мало того редкой сволочью, считающей, что все ему что-то задолжали. Хотя, впрочем, что ей-то с того? Ярослав дяде Антону родной племянник, а кто дяде Антону она? Так, соседская девочка, прислугина дочка… Господи, да с какой стати она в ней заговорила — эта ревность? Какое ей дело до какого-то оболтуса, с его то сонными, то неестественно блестящими глазами! Конечно, дядя Антон ей совсем не чужой человек, хоть и не родной, однако это вовсе не значит, что эти ее чувства к дяде Антону должны распространяться и на Ярослава, Ярика, чтобы ему неладно было.