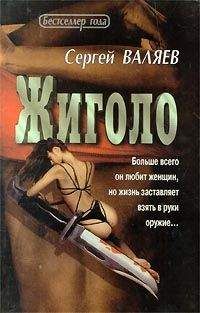Опасалось командование понапрасну: я и мои товарищи первые полгода интенсивной боевой учебы были не в состоянии даже думать о егозливости на стороне. Так, после недельного марш-броска по отечественным северным болотцам, самым лучшим в мире по сероводороду, мысль была одна: упасть и не встать — вместе со своим штык-ножом.
Однако выяснилось, что солдат быстро привыкает к предлагаемым обстоятельствам. Однажды под мартовскую капель мне приснилась нагая наяда, я протянул руку, чтобы основательно обнять её, и наткнулся на штык, то есть это было далеко не холодное личное оружие, а совсем наоборот — в смысле, очень личное. Осознав такое положение вещей, я понял, что учеба успешно завершена и можно штурмовать тамбовские деревенские укреп районы, прилегающие к нашему военному городку.
Странно, память не сохранила имен тех крестьянских барышень, с кем проводил хороводные ночки на сеновалах, в ботве, на стогах, а вот запах разнотравья, лунные пыльные тропинки, петляющие вдоль речки, серебристый сверч сверчат, тихий туман, холодную росу — все это запомнил.
Увы, аграрно-армейское прошлое уже позади — герой вернулся в каменные джунгли мегаполиса, где нет места ромашковым переживаниям, ситуация предельно проста: надо выживать, сержант.
Каждый живет как может,
А я живу как хочу.
Иду по лунному лучу, меняю кожу.[1]
Так оно и есть: я уже другой, я поменял кожу, она груба, у неё запах крови и воздушных потоков, раздирающих тела, кинутых из АНТеевого дребезжащего брюха.
Однажды прибыли поджарые, как борзые, генералы из НАТО, им решили продемонстрировать бесстрашных российских десантников в экстремальных условиях — в небесах гулял черный ноябрьский смерч. Ничего, сынки, покажем супостату нашу удаль молодецкую, благословил командир полка Борсук, мечтающий о службе в столичном Генштабе. Вернее, его молодая жена Лариска мечтала о белокаменной и давала всем, кому не лень, но в лампасах. Что не сделаешь ради службы на благо отечества. И генерал-рогоносец решил сделать красиво, приказав поднять в штормовое небо самолеты…
Из нашего подразделения погибли трое, и, когда довольные демонстрацией натовцы убыли на праздничный обед с русской водочкой и гарнизонными женами, мы отправились в стылые поля собирать в плащ-палатки кровавые останки, чтобы отправить их грузом 200 родным и близким…
Шаркаю на родную кухоньку: когда-то здесь в свои шестнадцать я вместе с Маминым и Славкой Седых цедил сладкий ликерчик «Клубничный». Мы сбежали с уроков и, сидя в тепле и уюте, чувствовали себя, как у Христа за пазухой. За окном мела поземка, прохожие прятали лица в воротники и от этого казались неестественными созданиями, бесцельно бредущим в хаосе заснеженных будней.
Приторная клубничная гадость меня опьянила и я вдруг осознал себя бессмертным. Странное такое представление о собственном мелком тленном существовании. Я даже засмеялся, ощущая на губах сладость вечной жизни. Теперь знаю, что такое смерть, и поэтому никаких иллюзий больше не испытываю. Хотя есть надежда, что грубая, как шинель, шкура спасет от неприятности кормить собой прожорливую подземную фауну — кормить в обозримом будущем.
В армию мы призывались втроем: Жигунов, Мамин и Седых. Служить ушел только я. У Венички врачи обнаружили плоскостопие и нарушение функций мочевого пузыря всего за тысячу $, а Славка вместе с родителями убыл под кипарисы жарких Майями-Бич. Тогда мы смеялись друг над другом. Первый из нас был безнадежным романтиком и дуралеем, второй ходил богатеньким плоскостопным писюком, третий оказался самым умным, вернее, его родители…
— Славик, чтобы жизнь твоя в пластмассовом ведре, — пили мы за будущего гражданина Америки, — была, как в сказке.
— А вы тут, в цинковом, — желали нам, — держитесь.
— Хип-хоп! — верили в свое фартовое грядущее.
Шумный приход Мамыкина отвлекает от пустых мыслей. Ну как, аника-воин, готов к труду, и радостно потирает руки. К какому труду? Ну привет, мой свет, возмущается друг, прочисти, Димыч, мозги светлой и вспомни день вчерашний.
Совет был кстати: не покидало ощущение, что по мне всю ночь тюзил траками Т-90. Мы хватили грамм по сто и мир приобрел более радужные оттенки.
— И что вчера? — поинтересовался я. — Ничего не помню, правда. Раечку помню и её стриптиз на столе помню, а больше не помню.
— Ну ты, служивый, даешь, — возмутился Веничка. — Кто вчера всем плешь проел: хочу работать-хочу работать.
— Работать? Зачем?
Мой товарищ в лицах напомнил, что я был неприятно настойчив и, напиваясь, как свинья в тельняшке, успел измучить всех требованием трудоустроить на хлебное местечко, где бы добрая копейка в карман катила и душу не воротило.
— А? — припомнил свои мутные требования по трудоустройству. — И что?
— Как что? Вперед — в частное охранное агентство «Олимп»! Там у меня дядька работает. Камень-Каменец, что кремень, ему солдаты хорошие нужны.
— Камень-Каменец?
— Это такая фамилия, Дым, — объяснил. — Не бойся, не обделит солдатика.
— Э, нет, — запротестовал я. — Никаких подвигов по защите частного капитала. Это добром не кончается.
— Ты про что?
— Не хочу быть бобиком, Мамыкин.
— А кем хочешь быть?
— А черт его знает, — признался и предложил выпить, чтобы просветлить мысли до состояния воздушных потоков.
Без промедления мы использовали родную в качестве смазки для скрипящих от напряжения мозгов и скоро повели поиски в нужном направлении.
— Вот скажи честно, Жигунов, чего ты больше всего любишь?
— Родину, — отвечал я не без пафоса, — а что?
— Не-не, мы её все любим, а вот чего ты хочешь?
— Сейчас или вообще?
— Ну… вообще, — и круговым движением руки чуть не сбил бутылку со стола.
— Чтобы не было войны, — твердо ответил я. — И не махай крылами, не птица.
— Курица — не птица, баба — не человек, — вспомнил мой друг.
— Вот её и хочу, — потянулся от удовольствия жизни.
— Кого? — удивился Мамыкин.
Я посмеялся: эх, Венька-Венька, прост ты, как залп «Шилки», накрывающей метеоритным смертоносным дождиком двадцать га с гаком. Не обращая внимания на мое легкомысленное состояние, Мамин задумался.
Дружили мы давно и были как братья. Правда, Венька был мал ростом, конопат и отличался иезуитским умишком. Видимо, природа решила наградить его хитростью, чтобы компенсировать хилые мышцы на декоративном скелете. Подозреваю, и дружить начал он по причине корыстной: я рос крупным бэбиком, а увлечение спортом формировали фигуру в решительную, способную всегда постоять за себя — и не только за себя. Любил пошкодничать Мамыкин, вот в чем дело, и в случае опасности…
После мы выросли и я заметил, что моему другу ужасно нравятся женщины с волосатыми ногами. Волосатые ноги, утверждал мой товарищ, признак темперамента и аристократизма. Когда встречал на улице женщину с волосатыми ногами, как у бразильской обезьянки, то его плебейская плоть бунтовала и он покорно брел за породистой аристократкой, нюча:
— Ну дай, ну дай, ну дай!
Он страдал от женщин, он их любил и ненавидел, раб щетинистой растительности на их ногах.
И я его хорошо понимал: однажды в гарнизоне мне встретилась такая затейница, она была повариха и патриотка, и выстригла там, где выше, пятиконечную звезду. И регулярно спрашивала, лежа на столе для резки мяса: надеюсь, тебе приятна моя звезда? (Хотя, признаться, использовала совсем другое словцо, но близкое по звучанию.) И я был вынужден хрипеть в ответ: да, мне приятна твоя звезда…
Потом патриотичная повариха вышла замуж за офицера Сосновского и отправилась вместе с ним защищать пограничные сосновые рубежи нашей родины. Со своей остроконечной звездой, думаю, она была так кстати.
— Есть контакт! — вскричал баловник судьбы, возвращая меня в прекрасное настоящее. — Как сразу не догадался, дурак!
— А в чем дело? — занервничал я. — В бандиты не пойду, предупреждаю.
— Не мельтеши, Митек, мысль пугнешь, — и потянулся к телефону. — Будет работа, — утверждал, — по твоему, так сказать, основному профилю.
Я вытянулся лицом: какому профилю? А такому, заржал Мамин, который в штанах, и пояснил, что имеет ввиду. От возмущения я потерял дар речи, и пока приходил в себя, приятель переговорил с невидимым собеседником и, бросив трубку, сообщил, что нас ждут — ждут с нетерпением.
— Где? — выдохнул я.
— В дамском клубе «Ариадна», — смиренно закатил глаза к потолку с грязными разводами.
У меня появилось нестерпимое желание треснуть авантюриста по его сервисному уху, чтобы упростить общение и ситуацию с трудоустройством. Не успел: вредный Мамин исчез в сортире и объяснялся оттуда, что к жизни нужно относиться философски, как к анекдотической потешке, которую можно принимать, а можно не принимать, но иметь ввиду следует.