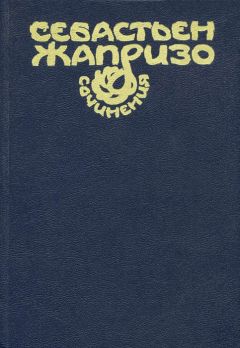Но почему-то, сама не могу объяснить, почему, каждый отпуск я провожу так: первую половину в главной (кстати, она единственная) гостинице Монбриана, в департаменте Верхняя Луара, а вторую неподалеку от Компьена, у моей школьной подруги, у которой есть «свой собственный» муж и глухая свекровь. Там мы играем в бридж.
И так каждый отпуск. И это совсем не потому, что я человек привычки или страстно люблю карты. И не потому, что чрезмерно скромна. Наоборот, нужно обладать незаурядным нахальством, чтобы потчевать своих знакомых рассказами о похождениях в Сент-Тропезе, на Лазурном берегу, когда в действительности возвращаешься всего-навсего из компьенских лесов. Так что я не знаю, в чем дело.
Я ненавижу тех, кто видел море, ненавижу тех, кто его не видел, и мне кажется, что я ненавижу весь мир. Вот и все. Пожалуй, я ненавижу и себя.
Зовут меня Дани Лонго, Верне, Мари-Виржини Лонго. Но маленькой я всем говорила, что мое имя — Даниэль. Я вру с тех пор, как появилась на свет. Сейчас-то Вержини мне нравится больше, но нечего и думать, чтобы меня так назвали.
По документам мне двадцать шесть лет, по развитию — одиннадцать. Рост — сто шестьдесят восемь сантиметров, волосы — довольно светлые, вдобавок я каждый месяц обесцвечиваю их тринадцатипроцентной перекисью водорода. Я не уродлива, но ношу очки — темные, чтобы скрыть свою близорукость, это моя уловка. Однако все великолепно раскусили меня, дурочку. Единственное, что я умею делать по-настоящему хорошо, — это молчать.
Кстати, я стараюсь ни с кем и не разговаривать. Два раза я сделала исключение из этого правила, и оба раза ни к чему хорошему не привели. Я ненавижу людей, которые не понимают с первого раза, что с ними не хотят иметь дела. Я ненавижу себя.
Я родилась во Фландрии, в деревне, от которой у меня осталось только одно воспоминание — запах угля, который разрешают подбирать вокруг шахты женщинам. Мой отец, итальянский эмигрант — он работал на станции, — погиб, когда мне было два года, под вагоном, из которого он перед этим украл ящик с английскими булавками. Я думаю, что он просто не разглядел надпись на ящике, — ведь близорукость я унаследовала от него.
Это произошло во время немецкой оккупации, и весь груз товарного состава предназначался немецкой армии. Несколько лет спустя отец был, так сказать, реабилитирован. В память о нем где-то в комоде у меня лежит серебряная, а может, посеребрённая медаль, на которой изображена хрупкая девушка, разрывающая, словно ярмарочный силач, оковы. Каждый раз, когда на улице я вижу бродячего циркача, демонстрирующего подобный трюк, я невольно вспоминаю об отце.
Но в моей семье не все герои. Меньше чем через два года после гибели мужа, когда уже пришло Освобождение, моя мать выбросилась из окна нашей мерии после того, как ей обрили голову. В память о ней у меня не сохранилось ничего. Если случится, что я буду об этом рассказывать кому-нибудь, я добавлю: не сохранилось даже пряди волос. И пусть на меня смотрят с ужасом — мне наплевать.
За два года, прошедшие после смерти отца, я видела эту несчастную женщину два раза или три в приютском зале для свиданий. Я бы затруднилась описать, как она выглядела. Наверное, бедно, как всякая беднячка. Она тоже была итальянкой, звали ее Рената Кастелляни. Родилась она в Сан-Аполлинере, провинция Фросинян. Ей было двадцать четыре года, когда она умерла. Моя мать моложе меня.
Кто моя мать и откуда она, я узнала из своего метрического свидетельства. Воспитавшие меня монахини наотрез отказались разговаривать со мной о ней. Когда я получила аттестат зрелости и стала самостоятельной, я приехала в нашу деревню. Мне показали на кладбище место, где она похоронена. Я хотела накопить денег и что-нибудь сделать для нее, ну хотя бы положить плиту с ее именем, но мне не разрешили, так как она захоронена в общей могиле.
А, впрочем, мне наплевать.
Несколько месяцев я работала в Мансе секретарем на фабрике игрушек, затем у нотариуса в Нойоне. Мне было двадцать лет, когда я нашла себе место в Париже. Затем я перешла на другое, но по-прежнему живу в Париже. Теперь я работаю в рекламном агентстве с персоналом в двадцать восемь человек и получая после вычета налогов тысячу двести семьдесят франков в месяц за то, что стучу на машинке, разбираю папки с делами, отвечаю на телефонные звонки, а в случае надобности и выбрасываю мусор из корзин для бумаг.
Мое жалованье дает мне возможность есть отбивную с жареной картошкой в обед, простоквашу и варенье на ужин, одеваться примерно так, как мне нравится, оплачивать однокомнатную квартиру с уборной и кухней на улице Гренель, обогащаться духовной пищей, которую каждые две недели дает мне журнал «Мари-Клер» и каждый вечер — двухканальный, с большим, сверхъярким экраном телевизор, за который мне осталось внести всего три взноса. У меня хороший сон, я почти не пью, курю умеренно. У меня было несколько романов, но не таких, которые могли бы вызвать возмущение консьержки. Правда, консьержки в моем доме нет, но есть соседи по площадке. Я свободна, живу без забот и абсолютно несчастна.
Наверно, все, кто меня знает — начиная с художников нашего агентства и кончая бакалейщицей моего квартала, — были потрясены, узнав, что я на что-то жалуюсь. Но я не могу не жаловаться. Еще не научившись ходить, я уже усвоила, что, если я не пожалуюсь, никто меня не пожалеет.
Началась вся эта история вчера вечером, в пятницу, десятого июля. Но мне кажется, что это было сто лет назад, в каком-то ином мире.
До закрытия агентства оставалось не больше часа. Наше агентство помещается около площади Трокадеро, в жилом доме с колоннами и затейливыми лепными украшениями, и занимает два этажа, бывшие квартиры. Там кое-где сохранились хрустальные люстры, которые позвякивают при сквозняке, мраморные камины, потускневшие зеркала. Моя комната находится на третьем этаже.
В окно за моей спиной светило солнце, падая на разложенные на столе бумаги. Я проверила план рекламной компании фирмы Фросей («свежий, как роса, одеколон»), минут двадцать просидела на телефоне, добиваясь, чтобы нам сделали скидку на наше неудачное объявление, напечатанное в одном из еженедельников, отстукала на машинке два письма. До этого, как и каждый день, вместе с двумя редакторшами и одним красавчиком, который ведет раздел купли-продажи земельных участков, сходила в соседнее бистро выпить чашку кофе. Вот этот-то красавчик и попросил меня позвонить по поводу того идиотского объявления. Стоит ему взяться за дело одному, как его обязательно надуют.
В общем, день как день, и все же он был не совсем обычный. В мастерской художники говорили о машинах и о Кики Карон, бездельницы-фифки забегали ко мне выклянчить сигарету, помощник заместителя нашего шефа, который обычно орет на сотрудников, то расшаркивается перед ними, чтобы выглядеть незаменимым, шумел в коридоре. Все, казалось, было, как обычно, но в поведении каждого угадывалась та скрытая радость, которая овладевает человеком в предвкушении нескольких праздничных дней.
В этом году 14 июля падало на вторник, и по крайней мере уже в январе (когда нам выдали наши записные книжки с календариками) мы знали, что на праздник будет четыре свободных дня. Чтобы возместить понедельник, в июне, когда никто, кроме меня, еще не ушел в отпуск, работали по полдня две субботы. А я взяла отпуск в июне. Не для того, чтобы услужить кому-нибудь, кто хотел уйти в июле, а потому — пусть меня покарает бог, если я вру! — что все остальные летние месяцы даже в главной гостинице Монбриана, в Верхней Луаре, нет мест. Все словно помешанные.
Если меня арестуют, нужно будет объяснить им и это: вернувшись после отпуска, якобы проведенного на Средиземном море, а в действительности загоревшая от сети напряжением в 220 вольт (как-то я подарила себе на день рождения ультрафиолетовую лампу за сто восемьдесят франков. Говорят, она вызывает рак, но мне плевать), я очутилась среди людей, возбужденных предстоящим отъездом к морю. А для меня все было кончено, капут на веки вечные, до будущего года.
Мне исполнилось двадцать шесть лет 4 июля, в прошлую субботу, на следующий день после того, как большинство моих сослуживцев отправилось в отпуск. Я просидела весь день дома одна, убрала квартиру. Я чувствовала себя старой, бесповоротно состарившейся, выбывшей из игры, скучной, близорукой и глупой. И безумно завистливой. Если даже считаешь, что не веришь в бога, наверно, такая зависть — грех.
Вчера вечером тоже было не лучше. Предстоял этот бесконечный праздник, когда не знаешь на что убить время, и — это главное — пока он наступит, я буду слышать, как в соседних, кабинетах все строят различные планы, а слышать я буду отчасти потому, что они громко разговаривают, отчасти потому, что я паршивая мазохистка и всегда подслушиваю.
У всех всегда есть какие-то планы. А я вот ничего не умею подготовить заранее, звоню в последний момент, и в девяти случаях из десяти никто мне не отвечает или же у каждого уже что-то намечено.