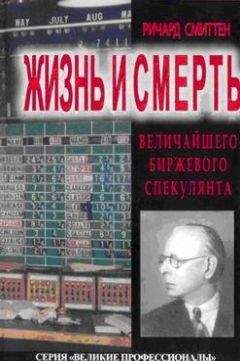Другая дверь из салона позволяет заглянуть в огромную, современно оборудованную кухню. Здесь хлопочет домработница пани Катажина, которая готовит обед под руководством хозяина дома, известного своими кулинарными талантами гурмана, каких уже немного осталось в Польше — стране молочных баров и точек общепита, работающих по принципу самообслуживания.
Третья дверь открывает перед нами сказочный мир: это настоящая феерия красок. Я останавливаюсь в изумлении. Не оказался ли я вдруг в лаборатории ученого-естествоиспытателя?
Славомир Барс улыбается. Он понимает чувства человека, пораженного глубиной и многосторонностью личности художника.
— Некоторые думают, — говорит он тихо в задумчивости, словно бы про себя, — что работа режиссера сводится к тому, чтобы взять кинокамеру, найти подходящую тему и суметь руководить актерами. Но это не так. Таким путем можно работать лишь над серой, второстепенной лентой, предназначенной для развлечения массового зрителя. Но если создатель фильма относится к своему делу серьезно, если работа его основана на глубокой духовной потребности донести до людей истинные ценности, он должен постоянно обогащать свой интеллект, углублять переживания, расширять контакт с миром. Естественно, особым, лишь ему присущим образом, который часто бывает непонятен или странен для других. Надо жить широко. Надо встать лицом к любой проблеме и посмотреть со стороны, объективно, на то, что собираешься использовать как материал.
— Так, как мы сейчас смотрим на этих прелестных мотыльков, — робко заметил я, когда Славомир Барс умолк.
— Может быть, именно так, — загадочно усмехнулся он.
Мы находились в комнате, где светло-кремовые стены были сверху донизу заполнены застекленными витринами, а под стеклом, словно на дне неглубокого прозрачного озера, приколотые острыми булавками переливались всеми цветами радуги бабочки. Посреди комнаты стояли застекленные шкафы, полные разноцветных экспонатов. Солнечный свет, льющийся через огромное — во всю стену — окно, придавал особый блеск атласным и бархатным крыльям насекомых, которые казались живыми, трепещущими, хотя были мертвы и неподвижны в своих стеклянных гробиках.
— Коллекционирование бабочек — это мое хобби, — сказал Славомир Барс. — Впрочем, я отношусь к этому серьезно, по-научному, как вы видите.
Мы подошли к широкому подоконнику. В ящиках, коробочках и банках здесь разместилась целая лаборатория. Я в этом не разбираюсь, и мне трудно было расспрашивать о деталях. Я лишь склонился над рамой, с которой было снято стекло, видимо, для того, чтобы перегруппировать или дополнить коллекцию.
— Здесь самые большие бабочки в мире, — объяснил хозяин дома, — и, я думаю, самые яркие. Вот американская гигантская ночная бабочка — эребиус, с размахом крыльев двадцать семь сантиметров, а это зеленовато-голубой экземпляр — необыкновенно редкий махаон-маака из уссурийской тайги. Вот мадагаскарская урания — зелено-черно-розовая с тройной полоской по краю крылышек. А вот „мертвая голова“, видите, на брюшке отчетливый рисунок человеческого черепа. Название грозное, правда? „Мертвая голова“ — единственная среди бабочек, дневных и ночных, издает знаменитый крик.
— Крик? — удивился я. — Мне никогда в голову не приходило, что бабочки могут кричать. Мы привыкли говорить о „беззвучном полете“ этих немых созданий.
— Да, она издает резкий, скрипучий свист, выталкивая из пищевода струю воздуха.
— А это — новый экземпляр в вашей коллекции? — спросил я, указывая на яркую бабочку, лежащую на марлевой подушечке. На темно-коричневом фоне бросались в глаза яркие полосы: на верхних крылышках — две голубых, на нижних — две оранжевых.
— Только что привез из поездки. Южноамериканская нимфалида.
— Красивая, — похвалил я.
Славомир Барс слегка приподнял брови. Он удивился этому неподходящему определению.
— В коллекции, — снисходительно поправил он меня, — важно не то, чтобы экспонаты были „красивые“, как вы сказали. Я, например, больше всего люблю рассматривать таких вот небольших серо-коричневых ночных мотыльков. — Он остановился перед одной рамой.
— Обратите внимание на эти тоненькие золотистые полоски на крылышках. Или вот: узор напоминает срез дерева. Вот это и есть настоящая красота. Тонкая, изысканная, сдержанная.
— Правило, которого вы придерживаетесь и в своих фильмах? — сказал я, желая направить нашу беседу в русло более для меня безопасное и более важное для читателей моего репортажа.
Мне показалось, что Славомир Барс принял мое сравнение с удовольствием и одобрительно улыбнулся. Мы вышли из мастерской, заглянули на минуту на второй этаж, где разместились две спальни — одна в стиле рококо, пани Божены, другая, Славомира Барса, — в стиле средневекового рыцарского покоя, и снова оказались в просторной центральной комнате, полной экзотических растений, африканских масок и тотемов, мексиканских скульптур, индийских тканей, кувшинов и циновок.
Он молчал, ждал моего вопроса.
Я наконец отважился и с трепетом спросил:
— Каковы ваши творческие планы?
Славомир Барс снял очки, потер глаза движением, в котором вдруг проскользнула усталость, и какое-то время глаза его скользили по зеленому лугу, усыпанному маками и ромашками, помолчал и ответил:
— У меня созревает план перевести на язык кино величайший шедевр нашей литературы — „Пана Тадеуша“. Уже определились основные черты принципа экранизации национальной эпопеи. Но о деталях говорить пока рано.
— Понимаю, — я почтительно склонил голову. — Такой труд требует огромной сосредоточенности и творческого напряжения. Последний шляхетский набег! Массовые сцены! Встреча наполеоновских войск! Костюмы, характеры, размах!
— Нет, нет, — возразил Барс мягко, но решительно. — Не так должно быть сегодня прочитано это великое произведение, если мы хотим приблизить его к современному зрителю. Я срываю с „Пана Тадеуша“ маску идиллии. Нахожу и обнажаю истинные конфликты: конфликт власти, конфликт провинциализма с духом эпохи, несущим дыхание большого мира. По моему мнению, главным героем является Граф. Он чувствует ужас гибнущего мира, он знает, как одинок человек перед лицом катастрофы. Кроме того, его увлечение тринадцатилетней Зосей гораздо интереснее примитивной юношеской любви Тадеуша. Пара Тадеуш — Зося — это уступка Мицкевича условным приличиям эпохи. Но страсть Графа — это сюжет современный. Это же Набоков! Это комплекс Лолиты!.. Зрелый, опытный мужчина и женщина-ребенок…
Я был ошеломлен:
— Значит, это будет фильм философско-психологический? Камерный?
— В высшей степени. Много крупных планов, массовые сцены будут лишь отделять основные эпизоды друг от друга.
— А заключительный полонез…
— О, да, но в совершенно иной трактовке. Я обнажаю исторический подтекст. Ведь будущее поражение Наполеона необыкновенно остро чувствуется в „Пане Тадеуше“. Я представляю заключительную сцену примерно так: под звуки полонеза в чудный летний день разноцветная лента танцующих, празднично одетых людей движется от старого имения, через парк, вьется по полю с созревающей пшеницей. Налетает вихрь, срывает листья с деревьев, пригибает к земле колосья, сдирает с танцоров богатые одежды, запутывает длинные волосы женщин. Строй танцующих ломается, каждый ищет защиты и спасения. Начинает падать снег, все гуще. Среди метели, которая заметает танцоров, маячат сани, запряженные белыми конями. Сани равнодушно пролетают мимо танцоров, которые пытаются выбраться из сугробов. Это Наполеон развевает польские сны о свободе.
Из метельной мглы, в такт полонезу, появляются остатки наполеоновских войск, в лохмотьях, испачканных кровью. Среди них Тадеуш с рукой на перевязи, он опирается на палку, хромает, ноги его почти босы, обвязаны тряпками. Он бредет к сельскому кладбищу, у стены которого стоит Граф со скрещенными на груди руками. Долго и красноречиво смотрят они в глаза друг другу. Все покрыто мглой. Среди кладбищенских крестов блуждает женщина в трауре. Мы не знаем, то ли это Зося, то ли Телимена над могилой Зоей. Все исчезает в снежном вихре. Звуковой ряд — полонез, звучащий все более нескладно, неритмично, наконец, совсем фальшиво.
— Какой великолепный символ! — сказал я. — Думаю, что поэт даже в самых смелых мечтах не предчувствовал, что кто-то может прочитать эту поэму таким образом.
Видимо, Славомиру Барсу понравилось то, что я понял его замысел. Он продолжал дальше говорить о своих планах:
— Я думаю, не снять ли мне заключительную сцену на свалке. Мусорная свалка прочно вошла в нашу кинематографическую лексику. Это великолепный символ, простой и в то же время глубокий, краткий и драматический образ загубленных польских судеб. Но, пожалуй, наполеоновской эпохе больше подходит мгла.

![Иоанна Хмелевская - Бабский мотив [Киллер в сиреневой юбке]](https://cdn.my-library.info/books/184651/184651.jpg)