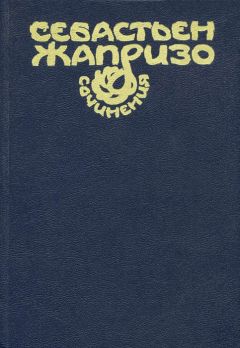— Улыбнитесь-ка лучше, я еще не видел, как вы улыбаетесь.
Она улыбнулась. Она явно старалась забыть все, что произошло с нею, но даст ли ей забыть это рука, ведь она болит? Рука, пожалуй, может оказаться серьезным препятствием. Глядя на маленькие, квадратные, ослепительно белые зубы своей спутницы — два передних слегка расходились, — Филипп осторожно спросил:
— А ваши глаза я тоже смогу увидеть?
Она кивнула, но улыбка сошла с ее лица. Он протянул руку над столиком и снял с нее очки. Она не противилась, сидела не шелохнувшись, даже не прищурилась, чтобы попытаться его видеть, и глаза ее были непроницаемы, в них отражался лишь свет ламп. Смущенно, и только потому, что он понимал — нужно прервать это молчание, он спросил:
— Как я сейчас выгляжу?
Она могла ответить: расплывчато, неясно, в стиле Пикассо, или, защищаясь: как типичный нахлебник, или еще что-нибудь в этом роде. Но она сказала:
— Пожалуйста, поцелуйте меня.
Он знаком попросил, чтобы она приблизила к нему свое лицо. Она повиновалась. Он нежно поцеловал ее, губы у нее были теплые, неподвижные. Он надел ей очки. Она смотрела на скатерть. Он спросил ее, все с тем же непонятным ему смущением в голосе, сколько в ее номере ваз, которые можно разбить. В ответ, словно подтрунивая над самой собой, она лишь усмехнулась и поклялась ему тихим, изменившимся голосом, что будет послушной, «это правда, обещаю вам», потом вдруг подняла на него глаза, и он понял, что она хочет что-то сказать ему, но слова не идут с ее губ. Она сказала только, что такие вот цыгане — бретонцы-китайцы родом из Меца в ее вкусе.
В комнате, где свет лампы образовал на потолке большую звезду, Дани дала себя раздеть, обнимая его за шею правой рукой, из-за чего он никак не мог снять с нее пуловер, и он с превеликим терпением долго целовал и ласкал ее на постели, прежде чем снял его, и еще долго — прежде чем откинул простыни, и еще долго — прежде чем разделся сам, не выпуская ее из своих объятий, приподнимая ее то на одной руке, то на другой, и ее светлые волосы касались его щеки. Потом, приникнув к его плечу, она что-то шептала, и он чувствовал ее горячее дыхание, слышал, как бьется ее сердце, видел, как смыкаются в блаженстве ее ресницы.
* * *
Позже, когда он спал, положив голову на ее правую руку, она целовала его обнаженную спину, узкую и красивую. Потом, стараясь не потревожить его, погасила свет и тоже заснула. Ее не оставляло ощущение, будто она каждый час просыпалась, но, видимо, это было оттого, что она спала, прижавшись губами к его плечу и все время чувствовала его присутствие. А позже, когда было уже светло и в комнату сквозь шторы проникал голубоватый свет, она, еще не открыв глаза, почувствовала, что он смотрит на нее. Приникнув к ее губам, прижавшись к ней горячим телом, он нежно прошептал: «Дани, Дани, тебе хорошо?» Вместо ответа она звонко рассмеялась, а он, хотя ему очень хотелось выглядеть неутомимым, снова закрыл глаза и уснул сладким сном.
Осторожно, чтобы не разбудить его, она выскользнула из его объятий, надела очки с обыкновенными стеклами и, закрыв дверь в ванную комнату, пустила воду тоненькой струйкой. Ее лицо в зеркале показалось ей чужим, она с удивлением смотрела на себя. Если не считать небольших кругов под глазами, на лице не осталось и следа вчерашней растерянности, а солнце уже успело за день тронуть его загаром. Пройдясь по комнате, она собрала валявшуюся на ковре одежду. Повесила на вешалку брюки, рубашку и серый пуловер этого — теперь она уже знала его имя — Жоржа… как там его дальше? В одном из карманов она нащупала бумажник, и ей пришла в голову омерзительная мысль познакомиться с его содержимым, но она без особых усилий отказалась от нее. Нельзя же опускаться до уровня ревнивой жены лишь потому, что ты повела себя как женщина легкого поведения. А вообще-то она хотела узнать только одну-единственную вещь.
Завернувшись в махровое полотенце, она вернулась в комнату, склонилась к нему, растормошила и спросила, правда ли, что четырнадцатого он уезжает куда-то к черту на рога. Он уверил ее, что это шутка, просто он хотел разжалобить ее, дайте ему поспать. Она заставила его поклясться, что он не собирался никуда отплывать. Он чуть приподнял над подушкой правую руку: «Клянусь, ты начинаешь всерьез досаждать мне», — и снова погрузился в сон.
Она приняла ванну. Тихим голосом заказала по телефону кофе, взяла в дверях у горничной поднос с завтраком и отдала ей погладить свой костюм, он почти высох. Она выпила две чашки безвкусной бурды, разглядывая лежавшего на ее кровати чужого мужчину, который уже стал ей близок. Потом, не выдержав, заперлась в ванной комнате и изучила содержимое бумажника. Он оказался не Жоржем, а Филиппом Филантери, родился в Париже и был моложе ее ровно на шесть дней. Ей было приятно узнать, что оба они родились под одним знаком Зодиака, а следовательно, их гороскопы хотя бы не будут противоположными, но, когда она увидела билет на теплоход, ее охватила паника. Он действительно отплывает четырнадцатого, в одиннадцать часов, с пристани Ла Жольетт, только не в Гвинею, а в Каир. Так ей и надо, нечего было лезть в бумажник.
Она приготовила ему ванну и заказала плотный завтрак, который он проглотил с большим аппетитом, прямо в ванне. Дани, завернувшись в махровую простыню, сидела на краю ванны, рядом с ним. Он был спокоен. Она смотрела на его мокрые волосы, огромные черные жуликоватые глаза, невероятно длинные ресницы и крепкие мускулы, ходившие под кожей, и как могла уговаривала самое себя. Да, у него нет ни гроша, и, встреть он не ее, а любую другую женщину, все было бы так же. Тогда чего же она хочет? Она говорила себе: Боже мой, сегодня уже воскресенье, двенадцатое, но он может передумать и не уехать, ведь мужчины, как и женщины, не ложатся в постель, не любя хоть чуть-чуть. Одним словом, всякую чепуху.
Он попросил по телефону, чтобы принесли его чемоданчик, который он оставил в своем номере, достал из него немного помятый светлый летний костюм и надел его, повязав черный галстук. Он сказал, что теперь носит только черные галстуки, так как у него умерла мать. Потом он помог одеться Дани. Он попросил ее остаться в простых очках, но она соврала, что это невозможно, так как они слишком слабые. Он сказал, что мог бы сам вести машину. Она осталась в простых очках. Когда она была готова и стояла уже у двери, он крепко обнял ее и долго гладил, целовал — на его губах еще сохранился вкус кофе — и шептал, что он истомится, пока они снова остановятся в какой-нибудь гостинице.
Ночью шел дождь, блестящие жемчужные капли лежали на кузове Стремительной птицы. Когда они проезжали Турню, показались первые лучи солнца. Макон встретил их звоном колоколов — звонили к воскресной мессе. Она сказала, что, если он не возражает, она не поедет к своим друзьям в Монте-Карло, а останется с ним до его отплытия. Но он повторил, что никуда не уплывает.
Они откинули верх машины. После Вильфранша, чтобы не ехать через Лион, он свернул на какую-то дорогу, которая вилась между скалами. Навстречу им попадались почти одни грузовики. Он свободно ориентировался на этой дороге, видно, ездил по ней не раз. Подъезжая к Тассен-ля-Деми-Люн, она вспомнила о парочке, которую встретила накануне в придорожном ресторане около Фонтенбло, и в памяти сразу всплыли все ее вчерашние злоключения. Сейчас они казались ей какой-то фантастикой, но все же в глубине ее души вновь проснулся страх. Она придвинулась к своему спутнику, на минутку прильнула головой к его плечу, и все прошло.
О себе он говорил мало, но без конца задавал вопросы ей. Самые щекотливые из них — чья у нее машина и кто ее ждет в Монте-Карло — она обходила как могла. Туманно рассказывала о своем «рекламном деле», точно описав агентство, в котором работала, только без Каравея. Стремясь переменить тему, она стала вспоминать приют. Он очень смеялся каждый раз, когда она рассказывала о Матушке. Он нашел старушку забавной, он бы мог ее полюбить. Правда, вряд ли он смог бы рассчитывать на взаимность, не так ли? Но Дани возразила: это еще как сказать. Где-то в глубине ее души Матушка в это время твердила: «Будь я жива, он бы сейчас не выглядел таким красавчиком, уж поверь мне. И наказала бы я его не за то, что ты сразу легла с ним в постель, а за то, что он собирается причинить тебе зло. А пока что скажи ему, чтобы не гнал так, иначе вы оба отправитесь на тот свет без покаяния, да еще разобьете чужую машину».
После Живора они переехали через Рону и оказались на автостраде № 7, которая шла вдоль реки, пересекая празднично украшенные городки: Сен-Рамбер-д'Альбон, Сен-Валлье, Тен-л'Эрмитаж. Не доезжая нескольких километров до Баланса, они остановились пообедать.
Солнце уже грело по-южному жарко, вокруг говорили с южным акцентом. Дани изо всех сил старалась не выдать ни жестом, ни взглядом то, что вдруг захлестнуло ее. Наверное, вот это и есть счастье. Они сидели за столиком в саду — именно так сидеть она мечтала вчера, — и она даже нашла в меню спагетти. Он рассказывал ей о таких местах, о которых, она призналась в этом, она и не слышала, где они смогут вечером любить друг друга, купаться и назавтра снова любить, и так — столько дней, сколько она пожелает. Она заказала себе малину и сказала, что они поедут в Сент-Мари-де-ла-Мер, это, наверное, самое подходящее место для цыгана, даже если он и не настоящий цыган, а весьма сомнительный.