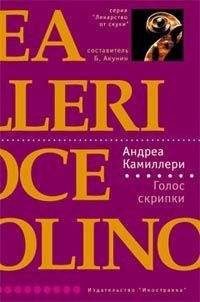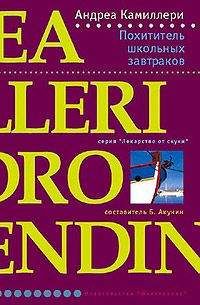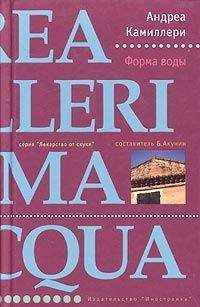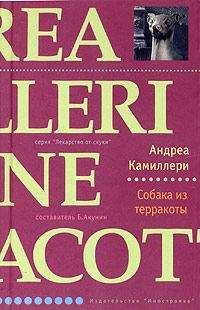Марта вернулся в палату жены, Валерия направилась к лифтам. Я успел туда до нее. Так мы оказались в одной кабине. Она плакала, и я стал расспрашивать, не болеет ли у нее кто. Слово за слово, я довел ее до больничного кафе. На пороге она заупрямилась и хотела уйти. Тогда я убедил ее зайти посидеть в соседнем кафе, где были расставлены столики на тротуаре. Сидели мы почти два часа.
— Ты орел, Мими. А позволь узнать, кем ты ей представился?
— Адвокатом Диего Крома. Подумал, лучше назваться так же, как я в свое время представился Лоредане.
— Она разоткровенничалась?
— Нет, сказала, что плачет от злости, а не от горя, потому что муж лучшей подруги не пустил ее к ней, а когда я спросил, отчего так, ответила, что муж ревнует к их дружбе. И что жена очутилась в больнице из-за его побоев.
— Назвала причину?
— Все та же ревность. Но к мужчине.
— И это все, чего ты добился за два часа?
— Нет, я добился того, что завтра после обеда, часам к четырем я явлюсь к ней домой, потому что она желает поговорить со мной как с адвокатом. Тогда я стал рассказывать ей об одном деле, которое выдумал на ходу.
— Что за дело?
— Сложный уголовный казус, в котором я выгляжу циничным крючкотвором.
— Зачем ты все это насочинял?
— У меня сложилось впечатление, что Бонифачо не нужен порядочный адвокат.
Он только приехал в Маринеллу и открыл стеклянную дверь на веранду, когда позвонила Мариан.
— Привет, мой комиссар. Как ты?
— Хорошо, а ты?
— Сегодня был смертельно скучный день.
— Почему?
— Сидела и ждала звонка от Лариани.
— И он позвонил?
— Да, соизволил, часов в семь. Сказал, как будто нашел то, что мне нужно.
— Вроде бы неплохая новость.
— Погоди говорить. Еще он добавил, что картина находится не в Милане и что он сможет ее мне показать не раньше чем через три дня. И кое-что предложил.
— Что?
— Провести эти дни у него в шале в Швейцарии. И он меня убедил.
Монтальбано почувствовал, что весь холодеет.
— Ты согласилась?
— Нет, глупенький. Он убедил меня, что и правда хорошо будет так занять время.
— Не понимаю.
— Сейчас объясню. Завтра сяду на самолет, прилечу в Вигату, побуду два дня с тобой и вернусь в Милан. Как тебе?
При этих словах комиссара охватили двоякие чувства. С одной стороны, он готов был прыгать от радости, а с другой — ощущал себя не в своей тарелке.
— Ничего не хочешь сказать?
— Понимаешь, Ливия, я был бы счастлив, конечно. Но дело в том, что в эти дни я очень занят. Мы сможем видеться только вечерами, да и то не факт, что…
Глухая тишина в трубке — будто их разъединили.
— Алло! Алло! — забеспокоился он.
Когда прерывали разговор, он чувствовал, будто ему внезапно что-то ампутировали.
— Я все еще здесь, и меня зовут все так же, — отозвалась наконец Мариан голосом, который будто шел с дрейфующей льдины.
Он ничего не понял.
— Что значит, тебя зовут все так же?
— Ты назвал меня Ливией!
— Я?!
— Да, ты!
Монтальбано совершенно смутился.
— Прости, — еле выдавил он.
— И ты думаешь, все можно поправить, попросив прощения?
Он не знал, что отвечать.
— Ладно, я не приеду, не волнуйся, — сказала Мариан.
— Я не велел тебе не приезжать, я объяснял, что…
— Ладно-ладно, тема закрыта. Вечером вернусь поздно, иду на ужин к подруге, перезвоню завтра. Спокойной ночи, комиссар.
«Спокойной ночи, комиссар» — сухо, без «мой».
У него пропал аппетит. Пошел на веранду с бутылкой виски и сигаретами.
Но едва сел, пришлось вставать — снова звонил телефон. Наверно, Ливия.
Монтальбано, затверди-ка имя: Ли-ви-я! Смотри, снова не облажайся. Одного раза более чем достаточно.
— Алло!
— Прости за те слова, комиссар. Я вела себя как дура.
— Я…
— Нет, не говори. От твоих слов — одни беды. Хотела еще раз пожелать тебе доброй ночи. Доброй ночи, мой комиссар. До завтра.
Снова повесил трубку, сделал шаг, и телефон зазвонил.
— Алло!
— Что это у тебя каждый вечер телефон занят?
— А ты почему звонишь, когда занято?
— Что за дурацкий вопрос?
— Прости, я устал. Два расследования одновременно, и…
— Понятно. Так сложились обстоятельства — долго объяснять, — у меня освободилось три дня. Что скажешь, если я приеду?
Он остолбенел — не ожидал такого. С чего бы у них обеих вдруг столько свободного времени?
— Как раз сможем спокойно поговорить, — продолжила Ливия.
— О чем?
— О нас.
— О нас? Ты что-то хочешь сказать?
— Я — нет, но чувствую, тебе есть что сказать.
— Послушай, Ливия, дело в том, что днем я буду занят, ни минутки свободной. Сможем поговорить только вечерами. Но я буду не в той кондиции, чтобы…
— Чтобы сказать, что разлюбил меня?
— Ну что ты такое говоришь, я буду усталым, нервным…
— Я поняла, не трать слова.
— В каком смысле?
— Не приеду, раз ты не хочешь.
— Господи боже мой, Ливия, я не говорил, что не хочу, я честно предупредил, что не смогу…
— …или не захочу…
И тут началась перепалка. Продлилась она меньше четверти часа; Монтальбано к концу разговора весь взмок.
Зато в результате у него прорезался зверский аппетит.
Он нашел в холодильнике холодный рис с морепродуктами. В духовке — кольца кальмаров и жареные креветки, осталось лишь разогреть.
Он включил духовку, накрыл на веранде.
Пока ужинал, старался держать на расстоянии мысли и о Ливии, и о Мариан. А то весь аппетит разом пропадет.
Наоборот, сосредоточился на попытке Спозито отвлечь его от мысли, что тунисцы бежали, потому что человек с сеновала узнал его.
Что-то за этим кроется.
Может быть, у Спозито сложилось свое мнение об этом человеке? И есть догадки, кто он? И он боится, что Монтальбано, узнав, может плохо отреагировать?
Комиссар долго размышлял, но так и не пришел к ответу. Волей-неволей мысли постоянно возвращались к его собственному положению.
Ясно одно: Ливия предложила ему отличную возможность поговорить лицом к лицу, а он отступил. Если бы Мариан узнала, что он отказался все прояснить с Ливией, наверняка назвала бы его трусом.
Почему же на него накатывает эта неуверенность?
Разве у него не случались в последние годы другие истории с женщинами, разве он не чувствовал себя столь же неспособным принять решение? Впрочем, если подумать, это не совсем точно. О тех историях он просто не рассказывал Ливии, и все.
Почему же теперь он чувствовал, что не может поступить подобным образом с Мариан?
Но не лучше ли, прежде чем говорить