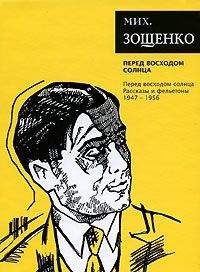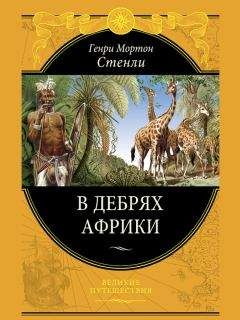Дедок Евсеич не поверил собственным глазам, нервно засуетился, цапнул бутылку, как гранату.
— Е'клопедральник! Мой?
— Да, Евсеич.
— Ты уж того… — застеснялся своей телесно-душевной сутолоки. — За Ивановну, Царство ей пусть Небесное… Все там будем, сынок. Ааа! — И потянулся за стадом, щелкая кнутовищем. — Домой, хря безрогие! Е'вашу, в Бога, душу, мать!.. — И пропал в пыльно-замшевом облаке, к власти оппозиционный своим земным, вольным существованием.
Я сел в машину — и поехал к себе домой. Домой, хря кремлевские! Е'вашу, в Бога, душу, мать!..
* * *
Дом был мертв, и окна его заколочены досками. На двери висел огромный амбарный замок. В огородике бурлила бурьяновая дрянь. Скрипела дверь сарая. Бочка была переполнена дождевой, должно быть, водой. Колодец тоже забит досками. Грустное, горькое зрелище. И вокруг ни одной живой души. Кроме меня, разумеется.
Я нарушил мертвый покой двора и дома. Я взорвал тишину своими действиями: сорвал доски с окон и колодца, ломиком сбил амбарный замок, включил свет — и дом с трудом, но начинал оживать: все, что было внутри него, сохранилось, покрывшись только прахом нескольких бесхозных лет. Я навел косметический порядок, задыхаясь от пыли, как от газовой атаки. Быстро устал. И, выбравшись на крыльцо, сел перекусить тушенкой, случайно обнаруженной в количестве двух банок. С невидимой реки наступали тихие, лугомелиоративные сумерки. Вдруг из огородных лопухов появился пес с беспризорным выражением на морде. То ли сын, то ли внук патриотического Тузика. Вероятно, нового Тузика манил душистый запах мяса.
— Здорово, — сказал я беспризорнику. — Жрать небось хочешь? — И раскромсал жестяную банку. — Сейчас у нас будет пир горой…
У собаки были умные, очеловеченные обстоятельствами глаза. Она внимательно наблюдала за моими действиями. Я освободил мясной брусок из плена жести, бросил его псу.
— Ну, давай знакомиться, бродяга.
Что-то у нас было общее, у меня и собаки. Что? Мне кажется, глаза.
* * *
В родном доме я спал как убитый. Без снов и сновидений.
Правда, сквозь сон чувствовал, что мой грешный организм впитывает полезную, как витамины, энергетику бревенчатых стен, на которых висели в рамочках портреты моих родных людей, скрипящих половиц, по которым ходили мои родные люди, смородинового воздуха, которым дышали мои родные…
Подобно аккумулятору, я заряжался энергией и силой, необходимыми мне для будущей работы. Если хождение за смертью можно назвать работой.
Проснулся я поздно — солнышко тянулось к зениту. На горячем, как сковорода, крыльце дрых счастливый кобельсдох, обретший в моем безответственном лице хозяина. Я осмотрелся окрест — ба! Бабье лето. Последние деньки перед дождями, слякотью и безнадежностью. Надо откусить лакомый кусочек от задержавшегося румяного лета. И мы с Тузиком отправились на речку. Смородинка, блистая, кружила среди сладкоягодных лугов. Я в чем мама родила бросился в холодные воды её. Как когда-то, в другой жизни. Пес, переживая, молодо лаял с берега. Затем не выдержал и плюхнулся, лапа, в речку спасать потенциального утопленника.
Я был счастлив: моя жизнь ещё кому-то нужна. Или перед Тузиковым взором прыгали мои руки с душисто-мясной пищей? Нет, собаки, в отличие от двуногих тварей, искренни в своих чувствах. Тузику я нужен был сам по себе. Как факт бытия.
Мы побарахтались, спасая друг друга, потом выползли на берег, где нас ожидал яростный приступ голода. Делать нечего — и по тропинке, вихляющей вдоль реки Смородинки, мы потопали в одноименную с рекой деревеньку.
В деревне наблюдалось воскресное оживление: дачный люд копался в огородах, жег мусор и листву, консервировал на зиму плоды (садов в трехлитровые стеклянные бочонки). На скамеечках, как стражи сельского порядка, сидели старорежимные, стерильные старушки в валенках. У магазинчика кипела общественно-праздная жизнь. Мятые местные мужички готовились к проводам трудного на урожай лета. Дачники скупали дешевый огородный инвентарь для будущих трудовых будней. Играла в казаки-разбойники мелюзга. У двери продмага я столкнулся с девушкой. Посторонился, уважая молодость и красоту. Однако девушка тоже задержалась, уважая мою старость?.. Неуверенно спросила:
— Саша?
Я понял, что знаком с этой прекрасной незнакомкой. Кто такая? Не знаю.
— Саша? Ты вернулся?
И я узнал её, ту, которую впервые встретил на берегу речки. Я узнал её, девочку-ромашку, если говорить красиво. И вот наша новая, неожиданная встреча. Через сто девять лет. Разумеется, Аня повзрослела; и её красота обрела как бы природную завершенность и утонченность. Модная прическа, легкий грим, улыбка городской дамы.
— Аня? — сказал я. И спросил, будто мы расстались вчера. После танцев в клубе. — Как дела?
— Хорошо, — ответила. — Вышла замуж. За дипломата. — И кивнула в сторону импортной подержанной колымаги. Там, у багажника, суетился лысовато-моложавый субчик. (Я субъективен, это правда.)
— Поздравляю, Аня.
— Спасибо, Саша.
— И тебе спасибо, Аня, — сказал я. — За все.
Девушка усмехнулась, мадонна деревни Смородино.
— Следующая наша встреча в двухтысячном году?
— Не знаю, — признался я.
— Вера Ивановна просила передать… шкатулку, — проговорила. — Там документы… письма, кажется… Шкатулка в Москве у меня…
Тут наша светская беседа была прервана криком мужа, который удивлялся, почему супруга задерживается с подозрительными субчиками в моем лице. Мы оба, я и Аня, посмотрели на него как на недоумка: дипломат, а орет, точно на Привозе. Даже Тузик возмущенно рявкнул на него.
— Извини, — вздохнула Аня. — Мне можно с тобой как-нибудь связаться по телефону?..
— Можно, — сказал я и назвал номер дежурного телефона. Его цифры были просты, как детская считалочка. Раз — два — три — четыре — пять! Вышел я искать…
Аня запомнила считалочку и волшебные слова-пароль. И мы разошлись, как после белого танца в клубе имени III Интернационала. По разным углам. Жаль. Я бы мог проводить девушку до родной её хаты. Увы, не судьба.
Подержанная импортная колымага, разваливаясь на ходу, исчезла в клубах пыли. А я, раздумывая о гримасах фортуны, зашел в продмаг, где пахло мылом, мышами, макаронами и прелыми тканями. Купил несколько банок тушенки, хлеба, минеральной воды и отправился восвояси. Тузик трусил передо мной — хвост его был в малиновых репейниках. Такой хвост я лицезрел девять лет назад. Только тогда я был не один. Рядом со мной шла девочка, которая верила, что я дипломат в США, или в КНР, или МНР, или в СФРЮ.
И почему я не дипломат? Сейчас бы ходил по Арбату в смокинге, смущая нищенский, праздный люд. Или на брудершафт пил самогон с израильским послом. Или сидел в шезлонге под пальмой на острове Майорка. Что и говорить, не судьба. У каждого свое дерево. Я иду под родными соснами и сожалею лишь об одном, что рядом нет той, которой я когда-то нравился. И которая, разумеется, нравилась мне, любителю сибирских курортов.
С Тузиком мы вернулись домой. Пообедали тушенкой. Обожравшийся пес рухнул в тень сарая и уснул мертвым сном. Я же отправился в погреб. И не за консервированными огурцами, это правда. Вытащив из холодного тайника ящик с промасленным оружием, я принялся чистить советский АКМ, израильский «узи», американский карабин, пистолет «стечкина», ножи и диски производства Японии. Что и говорить, человек научился убивать себе подобных. Всевозможными веселыми способами.
Однако не будем о грустном. Поговорим о прекрасном. О чем же? Забыл, хотя, конечно, помню. Поговорим о Фениксе — ясном соколе, гекнувшемся в нашей среднерусской низине, а точнее, в девятиметровом колодце. Теперь у меня единственный вопрос: освобождать птичку из плена или подождать? Чего ждать и зачем освобождать? Для таких птичек нужна клетка, крепкая и надежная. Зачем мне вытаскивать птичку, а вдруг она упорхнет из моих рук? Правда, по большому счету, на хрена она мне нужна? Отдать алмаз обществу на борьбу с воинствующей педерастией? Чтобы всем представителям сексуальных меньшинств устроить профилактический ремонт. Не знаю. Не знаю, что делать с африканским камешком. Пусть лежит в артезианских водах до лучших времен. Ан нет. Какая-то сила заставила меня, закончив работу с оружием, заняться волнующей меня проблемой.
Лучше бы я ничего не делал. Я крепок задним умом, без сомнений. Используя автомобильный трос, я, как скалолаз на пике Коммунизма, спустился в колодец имени четырех миллионов долларов. Вода была ледяная, и через четверть часа мой копчик превратился в сосульку. Молчу о других функционально важных органах моего несчастного тела. Мои попытки обнаружить на песчаном дне хоть какие-то признаки предмета, напоминающего лекарственный пузырек, в котором и был замурован алмаз, оказались тщетны. Колодец был пуст, как пустыня Гоби после испытания атомной бомбы.