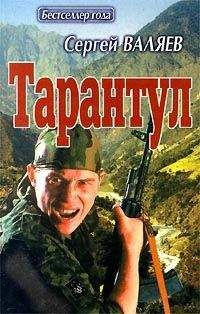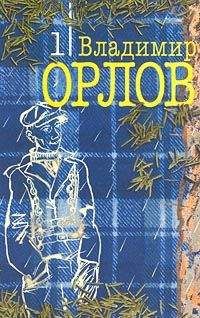Единственного, кого не увидел — Серова. Его почему-то не было среди всех. Мне знакомых. Его не было, хотя все уже собрались. Странно?
Потом понял, где мой товарищ.
Я увидел гроб, он был обит праздничной кумачовой материей. Его дружно сгружали с автобусика… Гроб поставили на тележку, такая странная металлическая тележка. Она была разболтанная от частого употребления, эта тележка, и гремела на неровностях плохо асфальтированных дорожек. Гроб опустили на эту тележку и поднялся солнечный ветер и от него зашумели деревья…
Потом я подошел поближе. Я шел за Антонио, за девочкой Тоней, она куталась в черный плащ, у неё не было темного костюма, на случай чьей-то смерти, и ей приходилось кутаться в теплый непроницаемый плащ. Мы подошли и я увидел…
Лучше бы я этого не видел: в гробу лежала обезображенная румянами кукла. Манекен. Даже смерть не спасала, даже смерть. Но не это было самое страшное.
Саша был в костюме, в том самом костюмчике, в котором бегал по редакционным коридорам и который ему был мал, однако этого никто не видел. Никто не видел, что рукава костюма коротки. Не видели, потому что руки были заложены цветами и среди этих цветов были розы…
Но не это самое страшное.
Даже когда толкнули тележку и она зазвенела металлическими разболтанными частями, подпрыгивая и виляя. Тележка виляла, и голова лежащего в гробу болталась как неживая.
И это даже было не самым страшным. Потому, что появился странный звон, будто над гробом летели птицы с колокольчиками и своим легким и светлым звуком…
И даже когда улыбающаяся Валерия завыла, раздирая свое лицо руками… и капли её крови окропили лоб и губы любимого… и он не ожил…он продолжал умирать…
Не это было самое страшное.
Уже потом, после похорон, я буду отвечать на вопросы, которые будет задавать человек в темной гражданской одежде — он будет пожилым и с подкрашенными, как у женщины, баками.
— И все — таки? Все-таки? Не понимаю? Как вы могли?.. На таком мероприятии, как похороны…
— Что?
— Могли же убить?
— Не мог… трудно… после болезни…
— Откуда такая ненависть?
— Это не ненависть.
— Ненависть. К своим.
— Это другое.
— Вы меня пугаете, молодой человек.
— Да?
— Да.
— Если бы только вас… Я сам себя пугаю.
— Не понимаю?
— А вы? Вы не боитесь себя?
Самое страшное случилось. К открытому гробу подходили какие-то люди, они подходили к изголовью и говорили. Лучше бы они молчали… они говорили, они посыпали моего мертвого товарища словесной позолоченной мишурой.
Занавесочки с рюшечками.
Они посыпали голову моего друга пепелом лжи и подлости. И все это можно было понять и простить… Можно понять и простить: они хотели как лучше…
Но потом я услышал знакомый голос. Я бы узнал и никогда не спутал этого голос из миллиона миллионов других голосов; я понял, кто хочет говорить о моем последнем соотечественнике, он начинал говорить о нем. Как о мертвом. Его голос звучал уверенно, и казалось весь мир слушает этот уверенный и картавящий голос.
Это было предательство. Это была принародная продажа жизни того, кто уже не мог ответить. Кто был беззащитен перед наглой, здравствующей силой…. Перед силой, которая ставила под сомнение трагический смысл происходящего, превращая все в фарс… В балаган…
Трагедию — в фарс… Этого больше всего боялся в жизни мой товарищ… Даже смерть не спасала.
Можно многое понять и простить… Но когда вновь и вновь, вновь и вновь вкалачиваются гвозди, пробивающие насквозь живую плоть. Когда вновь и вновь, вновь и вновь звякают эти тридцать проклятых сребреников, вместо мелодичного и легкого звона колокольчиков в небе…
Впрочем, это тоже не самое страшное.
Самое страшное и нелепое: человек умер и ничего в мире не изменилось. Тогда зачем жить?
Но я жил — я ничего не мог поделать. Я жил — и был обречен на счастливую жизнь.
Я жил — и мне нужна была тишина. Мне необходима была тишина. Я хотел говорить со своим павшим товарищем. Мы с ним о многом не успели вместе помолчать.
Ночью небо похоже на город
Там живут и звери, и люди,
Но никто там никого не убивает
Не стреляет ни в козу, ни в птицу
И медведь не трогает добычу.
Ничего там не случается плохого.
… а вода все прибывала и прибывала. И дождь не кончался, казалось, уже неделю льет, как из ведра. Вода все поля залила, потом поднялась к домам, мы на крыши забрались со всей живностью — курами, собаками, козами и даже коровами. А вода все равно выше и выше — уже деревья как кустики выступают, там много воды. И трупы плавают всякие — и животных, и людей. Уж и не знали, что делать, да тут дождь кончился. А утром смотрим — вода уходит, и под солнцем рдеет, как кровь…
Сквозь гнетущую пелену сна слышу тревожную и знакомую трель телефона. Я не хочу поднимать трубку. Это мама. Она искренне волнуется, не понимая, что мне никто не нужен. Равно как и я никому не нужен.
Я был нужен друзьям. Они погибли на войне, которая всюду нас, как вода во время наводнения. Все делают вид, что ничего страшного не происходит, вода ещё не затопила дома и поля, и есть иллюзия мирной и счастливой жизни, но тени цвета хаки уже зависают над вашими, граждане великой страны, согбенными на собственных огородах спинами. Это не послеполуденные тени это тени смерти, которые скоро вползут в ваши жилища, судьбы и жизни.
А мама требовала активной, как она выразилась, социальной позиции. От меня. Когда услышал, смеялся так, что, казалось, кишки рвутся в моем брюхе; во всяком случае, неделю отхаркивался плевками, похожими на рубиновые сколки.
— Почему не хочешь учиться? — не понимала. — Или иди работать? У нас вон… все инвалиды трудятся. Как ты можешь лежать днями? Разве можно так жить?
— Можно, мама, — отвечал я.
— Нет, я все понимаю, но жизнь, Алешенька, продолжается… Ты молод, все в твоих руках. — Об отчиме Лаптеве старалась не упоминать. Видимо, ей рассказали такие ужасы о нашей неожиданной сшибке на даче, что мама решила запретить себе упоминать эту деликатную тему. Иногда она это умела делать. — Все в твоих молодых руках, — повторила. — Весь мир…
— У меня ничего нет, мама, — удивлялся, показывая ладони.
— Алеша, прекрати! — нервничала. — В конце концов, женись. На хорошей девушке.
— Отличная мысль, — согласился. — Есть даже невеста. Девственница.
— Ну и прекрасно, — обрадовалась. — Как её зовут?
— Анджела, родная.
Маме сделалось дурно, даже она знала про эту любительницу танковых стволов; на этом разговоры о моем будущем закончились; и я остался жить, потому что был обречен на вечную жизнь. Как и все.
Когда первое искусственное космическое тельце преодолело земное притяжение, то весь мир получил бессмертие. Почему? Дело в том, что у человечества появилась возможность в свою катастрофическую катаклизму покинуть отработанную территорию и расплодиться по всевозможным планетам и мирам, превращая их тотчас же в цветущий сад. «И на Марсе будут яблони цвести» — это про нас.
Правда, пессимисты утверждают, что в иных мирах отсутствует воздух с кислородной начинкой, необходимый для наших изношенных легких. Плохо представляют пессимисты нашего человека, воспитанного в духе активной социальной позиции. Если такому межгалактическому герою выдать лопату и приказ: сажать, но не дышать, то с полной уверенностью можно сказать: приказ будет выполнен.
А если приказ власти преступен, и ты это знаешь, и тем не менее выполняешь?..
Власть — всласть, всласть — власть. Власть — порция фрикасе в винном соусе, тайный счет в иноземном банке № 004000400Е, бессмысленные приказы, не подлежащие обсуждению? Власть над кем и чем? Миром, космосом, пушечным молодым мясом, личными сбережениями, гаерами из правительства, привередливой фортуной, дочерьми, убеждениями и так далее? Щекочет ли власть селезенку и прочие шурфовые органы властолюбца? Видно, да, иначе не объяснишь такого яростного рвения к заветной мечте, к рулевому колесу государственного корабля в надежде, что Бог продлит агонию затухающей жизни.
Не знаю, какая ещё долготерпеливая нация может позволить себе роскошь содержать политический, истерический паноптикум; какая ещё нация может держаться на тонущем корабле и, жертвуя жизнями, затыкать ту или иную пробоину, которые возникают вовсе не по причинам внешним, а по причинам внутренних идеомоторных актов тех, кто нетвердо качается у колеса власти.
Даже по-человечески жаль того, кто прошагал тяжкий, выморочный, извилистый путь к желанному штурвалу. И вот оно в руках, колесо фортуны, ан нет — нет власти над временем и пространством, нет власти над широкими народными массами, а есть больничная палата и медицинский консилиум, убеждающий, что все будет отлично — зарежут по первому разряду, есть за окном безразличный, спивающийся, тоскливый в своей бедности люд, есть моложавые соратники по общему делу со сдержанным нетерпением ждущих бесславного и закономерного конца, чтобы после гарцевать на неостывшем ещё трупе, есть выматывающая колкая боль в сердце и есть надежда…