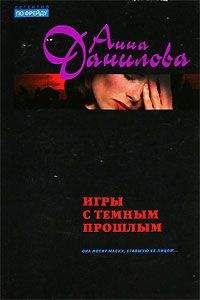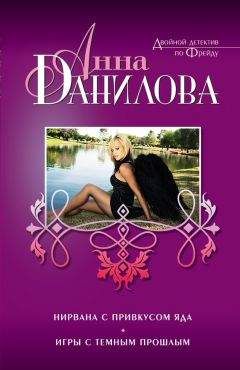Мысли Оли работали четко. Чаплин. Только он мог рассказать кому-то о своей жизни, о своих бабах… Кто из его бывших любовниц способен ради него пойти на преступление? Да почти все… Вот Машка бы не смогла.
– Игорь, мне надо с тобой поговорить…
– А Маша? Она же в обмороке, надо вызвать «Скорую помощь»…
– А ты дай ей понюхать нашатыря, она сразу придет в чувство… Просто она утомилась. Ее довели до такого состояния, понимаешь? Эта смерть… А во всем виноват ты, только ты и все твои бабы!
Он сам вывел ее из спальни, насильно усадил в кухне на стул.
– О чем ты?
– Да о том, что ее заказали, понимаешь? Какая-то из твоих баб. Я знаю, есть такие фирмы, оказывающие подобные услуги… Ты же любишь Машу, вот ее и решили устранить. Кроме того, эта баба каким-то образом узнала, что Машка беременная. Я это чувствую… Надо бы узнать у сестры фамилию ее врача и наведаться к ней, все расспросить, кто у нее был и спрашивал про Машку…
– Оля, да что ты такое говоришь? Какая еще фирма? Да это же бред! Просто кто-то развлекался в этом, как его, Созополе…
– Ты сам-то веришь в то, что говоришь?
– Да не знаю я, – разозлился Чаплин. – Давай нашатырь… Она там… лежит, а мы тут собачимся!
Маша пришла в себя и заплакала. Чаплин лег рядом с ней, обнял, и Ольга вышла из спальни. Она понимала, что Маша рассказала не все. Случилось что-то ужасное, и это не смерть лжеписательницы. Но что?
Она бросила взгляд на куртку Маши. Сестра пришла даже без сумки. Почему? Значит, было не до сумки.
Ольга пощупала карманы куртки. Достала большой смятый желтый конверт. Открыла его и достала оттуда два серых, из плотной бумаги конверта. Она так удивилась, что подписаны они были Маше и Чаплину, что поначалу даже не обратила внимания на то, что на конвертах стояли и их адреса. Значит, кто-то собирался вручить их Маше и Игорю. Она была уверена, что разгадка того, что произошло с сестрой в Созополе, таится в этих конвертах.
Чтобы не быть застигнутой врасплох, она взяла эти конверты (Маша вряд ли сейчас выйдет из спальни, она слишком слаба, Чаплин же не выпустит ее из своих рук) и заперлась с ними в ванной комнате.
Она с самого начала, на ощупь, угадала, что в конвертах. Фотографии. Оля открыла конверт, адресованный Маше. Вот они. Цветные…
У Ольги щеки запылали, когда она увидела голого Чаплина в объятиях женщин. Понятное дело, что ни одну она не знала. Кто же фотографировал Игоря? Кому понадобилось заниматься этим грязным делом? Скорее всего, это был фотомонтаж. Но Машка, увидев их, не могла думать ни о каком фотомонтаже, она видела лишь своего любимого Чаплина в объятиях голых баб. Все. Поэтому-то она и примчалась к сестре, чтобы рассказать, показать, спросить совета или просто погреться душой…
Но что тогда в другом конверте? Машку-то голую никто не видел. Ее не могли снять.
Оказывается, могли…
В дверь постучали.
– Оля, это я, Игорь уснул… Я знаю, что ты там с фотографиями…
Ольга открыла и впустила ее.
– Бедняжка ты моя. – Она обняла растрепанную, с отпечатавшимися на щеке складками подушки Машу, такую несчастную, убитую. – Где это тебя засняли?
Маша уселась на крышку унитаза и вздохнула:
– Это Роберт со мной в постели. А снимала меня как раз та «писательница», больше некому… Потому что, видишь, вот эта, следующая фотография, где я лежу с небритым мужиком? Вон, и ваза с розами стоит, и бутылка шампанского… Это гостиница в Бургасе. А мужик этот нас устраивал, администратор. Думаю, она ему деньги заплатила, чтобы он снялся голый… Какая гадость… а я так привязалась к ней, увидела в ней человека…
– Неужели ты ничего не чувствовала?
– Нет. Только по утрам мне всегда было нехорошо… Но я-то думала, что у меня токсикоз…
– Значит, она тебя поила какой-то дрянью… Снотворным.
– А Игоря видела?
– Это фотомонтаж, уж слишком здоровые сиськи у этих баб… Можно эти фотографии отдать на экспертизу, сейчас за деньги что угодно сделают…
– Как ты думаешь, мне показать ему все это? Надо же узнать, есть ли среди его баб та, которая меня заказала…
– Ты можешь все испортить… Зато теперь я понимаю, зачем ты рассказала ему про Роберта. Могла ведь и не рассказывать… Хотела объяснить происхождение этих снимков?
– Ну да!
– Он Роберта проглотил, не надо ничего показывать, вообще сожги все это. Главное теперь – найти заказчика. Но этим вопросом займусь я. А ты сиди дома и никому не открывай. Ты же понимаешь, что на тебя идет охота…
– Оля, страшно-то как! Я думала, что сойду с ума… Надо спасибо сказать этой Дунаевой уже за то, что она вывезла меня из Болгарии…
– Она собиралась осчастливить вас этими фотографиями, – заметила Ольга.
– Но не успела же…
– Она действовала не одна, за ней стоит тот, кто ей это поручил: непосредственно заказчик и ее хозяйка…
– Откуда ты знаешь про хозяйку?
– Маша, я должна тебе кое-что рассказать…
Свой возраст она называла «сагановским», но никак не «бальзаковским». Это был элегантный, раскрашенный теплыми осенними, красно-оранжевыми пылающими красками возраст, когда женщина светится вся изнутри, когда глаза ее горят долгим умным пламенем, а тело отдает и принимает жизнь полнокровно, со звериной жадностью, прощаясь с драгоценной коллекцией всех чувств, связанных с наслаждением. Она не верила молоденьким женщинам, уверяющим всех (а на самом деле – только себя), что можно получить удовольствие с перезрелым, лысеющим мужчиной, успевшим растратить все свои мужские силы с многочисленными женщинами. Старик, если он исключительно богат, хорош лишь своим банковским счетом да умеренностью в любви. Что же касается настоящих чувств, то женщине, в каком бы возрасте она ни находилась, требуется молодой и сильный мужчина. Это закон природы. И она, женщина со скромным и коротким, как стежок белошвейки, именем Нина, знала этот закон и любила своих немногочисленных молодых любовников. Она вела жизнь тихую, размеренную, никогда никуда не спешила, если это, конечно, не было связано с работой, и со своими мужчинами обращалась бережно, нежно. Последняя ее любовь, молодой мужчина по имени Герман, сделала Нину почти счастливой. И не потому, что Герман не был альфонсом. Герман, как ей казалось, любил ее, был сильно привязан к ней и, даже засыпая, держал ее за руку. Чистый и восторженный, он видел в ней свою мечту, он боготворил ее, этот начитанный и романтичный мальчик, и она, по горло утонувшая в тяжких черных грехах, с ужасом думала о том, что рано или поздно все раскроется, и он бросит ее, убежит от нее, отплевываясь, как от ведьмы, жабы, ядовитой змеи…
Они благоразумно решили сдавать его квартиру, и Герман еще полгода тому назад переселился к Нине. Ей было сорок семь лет, ему – на двадцать лет меньше. Обворожительный шатен с мягкими волосами, карими глазами и нежной улыбкой, он нравился многим женщинам, но всем в многомиллионной Москве он предпочел ее, тихую ласковую женщину, закрашивающую свою седину и время от времени делающую подтяжку лица… Стройная, с длинными золотистыми волосами, утонченная женщина, с которой ему было не стыдно появиться в Большом театре (она предпочитала оперу, он – балет), Нина вызывала в Германе, помимо любовных чувств, еще и эстетические. Он словно не замечал тонких морщин на высоком выпуклом лбу, утренних припухлостей под глазами. Все казалось ему в этой женщине идеальным, женственным, божественным. Ему нравилось, как она двигается, как пьет чай, как смотрит на него долгим, любящим взглядом, словно прощаясь…
Скажи, ты ведь не бросишь меня? Он так часто произносил эту фразу, не понимая, как эти слова питают ее чувства, как придают ей силы и заставляют еще больше ценить свою последнюю, как ей казалось, любовь. Разве мог он предположить, что эти же слова готовы сорваться и с ее языка, что это она находится в постоянном страхе потерять его… Внутренняя ее жизнь уже почти готова к очищению, что осталось совсем немного, и она отойдет от своих дел, откажется от той власти и того образа жизни, которые она выдумала для себя сама, от отчаяния… Да и стоит ли подбирать слова в свое оправдание, когда их не существует? Герман не такой человек, чтобы выслушивать весь этот бред, выносить эту грязь. Он подарил ей свою любовь, свою молодость, она же ему – свой страх одиночества и свою ложь. На этом грязном фоне ее любовь потеряет свою значимость, и, думая об этом, Нина страдала, а иногда, по ночам, покинув теплую свою постель, плакала, глядя в окно… И ей казалось, что все люди вокруг чистые и счастливые, и только она одна тонет в густой и черной жиже лжи…
…Пришли из театра, разделись, и Герман попросил чаю.
– И Мартиросян хорош, и Гаврилова, правда, Герман?.. – щебетала, иначе и не скажешь, Нина, заваривая чай на кухне. – Я знаю, тебе больше нравится Семенина в «Иоланте»… Ты где, милый? Почему молчишь? Ты не в ванной?..
Герман не отвечал, и встревоженная Нина заглянула в комнату. Герман замер с галстуком в руке возле столика, на котором стоял телефон, внимательно прослушивая сообщения автоответчика. Он повернул голову и некоторое время молча разглядывал Нину. В другой раз он бы непременно заметил вслух, как красиво уложены у нее волосы и как идет ей это черное открытое домашнее платье. Но сейчас он собирался ей сказать что-то очень важное и очень неприятное, что выведет ее из равновесия… Как хорошо, что в руках ее нет ни чайника, ни чашки. Не то разбила бы… Герман никогда ее не расстраивал, он места себе не находил, если она плакала. И хотя это случалось крайне редко, он всегда сильно переживал за нее и злился на тех, кто довел ее до слез. Он по-настоящему, сильно любил эту женщину и знал, надеялся, что проживет с ней до самой смерти. Больше того, он уговорит Нину родить ему ребенка, тем более что она вполне здорова, так, во всяком случае, сказал ее доктор…