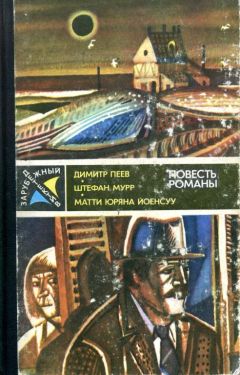— Та-ак, — выдохнул Сипиля и стал сосредоточенно осматривать Континена. — Объект вскрытия ростом сто семьдесят два сантиметра, вес — восемьдесят девять килограммов, достаточно упитан, среднего возраста... точка... пункт... покойник...
Харьюнпя представил себе, как машинистка, находящаяся в совсем другом помещении, пристроила получше наушники и пальцы ее забегали по клавишам.
Впоследствии Харьюнпя понял, почему он едва не потерял сознание при первом вскрытии: он представил себе покойника живым человеком. Таким же, как он сам, — с волосами, ногтями, глазами, с нервами, восприимчивыми к боли. И так как с самого детства ему внушали, что человеку нельзя причинять зло, было ужасно видеть, как планомерно и искусно разрушают человеческое тело.
О том, что произошло с Континеном, можно было судить по вполне еще различимым следам кровоизлияния в мозг. Даже ударов, нанесенных в лоб, достаточно было бы для смертельного исхода. Теперь, при вскрытии, неожиданно выяснилось, что Континена не только избили, но еще и удушили.
Подошел Сёдерхольм — он был бледен и едва переводил дух. Харьюнпя чувствовал, что и сам выглядит не лучше.
— Тимо, я... я пойду. Больше не нужно... в отделе много работы... да и эту пленку надо проявить, — еле слышно прошептал Сёдерхольм: Харьюнпя понял его лишь по движению губ.
— Да, да, иди. Я и сам скоро... но я вызову автомобиль, поезжай.
Стоя в стороне, Харьюнпя почувствовал, как усталость сковывает его. Он следил за движениями рук Сипиля и Янссона, прислушивался к их переговорам вполголоса, и ему казалось, что все это он видит во сне. Невольно он подумал, как бы почувствовал себя убийца Континена, если бы очутился сейчас здесь, в этом смраде, и увидел, к чему привела вспышка ненависти и последовавшее за ней насилие.
А ведь и убийца когда-нибудь может очутиться на этом столе под ослепительным люминесцентным светом, да и он сам тоже, подумал Харьюнпя. И представил себе, как он лежит на этом столе. Увидел регистрационную запись на своем бедре, выведенную черным фломастером. — «Харьюнпя Т. Й.», и вслед за этим данные о его росте и весе: «184—72». Эта картина не заставила его содрогнуться. Лишь смутила своей очевидностью. Харьюнпя не боялся смерти. Жаль было бы только Элизу и Паулину, которые стали бы плакать и горевать, да и прожить на маленькое жалованье Элизы им было бы трудно. Кроме того, у Харьюнпя возникло чувство разочарования и горечи: вот он умрет, а в мире все будет по-прежнему и время будет вносить свои изменения, о которых он уже ничего не будет знать.
Тревога переполнила Харьюнпя. Ему вдруг почудилось, что сейчас, сию минуту, что-то происходит с Паулиной. Харьюнпя захотелось домой — немедленно. Он беспокойно заерзал на месте и тихо застонал. Только бы добраться до дому, а там он возьмет Паулину, укачает и положит спать возле себя. Хотя в зале не полагалось курить, так как врач должен различать несвойственные организму запахи, Харьюнпя извлек сигарету из пачки и сунул в рот. Руки его все еще так дрожали, что он раскурил сигарету только со второй спички. Страх, горе и нежность, смешанные с усталостью, привели Харьюнпя в такое волнение, что слезы навернулись на глаза. Он боялся моргнуть, и собравшаяся перед зрачком влага застилала ему зрение. Он смотрел как сквозь серую пелену, и блестящие инструменты распадались перед его глазами на сотни светлых точек.
Ассистент притворил за Харьюнпя дверь судебно-медицинской экспертизы так тихо, что он даже не услышал, как щелкнул замок. С минуту он постоял на месте, наслаждаясь солнечным светом и свежим воздухом. Он глубоко втягивал в себя кислород. Был всего лишь апрель, но уже по-весеннему, по-майски тепло. Воздух благоухал росой, возникавшей из тумана, и тучной землей, в дворовой траве пробивались нежные желтовато-зеленые цветы. Харьюнпя водрузил берет на голову, но не застегнул пиджака — было на удивление тепло. С Маннерхейминтие доносился шум уличного движения. Реактивный самолет прошипел где-то в стороне Пасила. Внимательно прислушавшись, Харьюнпя различил высоко в небе пение первого жаворонка.
Не спеша Харьюнпя направился к конечной трамвайной остановке «десятки». Правую руку он держал в кармане пиджака, в левой держал пестрый пластмассовый мешок. Песок поскрипывал под резиновыми подошвами его ботинок. Он мысленно прокрутил только что состоявшийся телефонный разговор.
«Гараж, Лаукама? Это Харьюнпя, привет...»
«Да?»
«Я нахожусь в судебно-медицинской экспертизе. Со мной был Сёдерхольм на машине, но его вызвали на другое дело. Я на вскрытии. Не мог бы ты прислать сюда кого-нибудь за мной?»
«А-а-а. Подожди минутку... послушай, здесь всего один автомобиль, и тот баз шофера. Если подождешь часок, то пришлю».
«Не нужно. За это время я доберусь и пешком. Я после ночного дежурства...»
«Ничего не поделаешь. Комиссар патрульной службы уехал куда-то с Лепоненом, а Витикка на объезде с курьером. Такие вот пироги. Подожди или добирайся трамвайчиком, а то и пешочком, хе-хе».
«Ну ладно, оставим это дело... Чтоб ты в дерьмо вляпался...» — добавил Харьюнпя, прежде чем бросить трубку, и только на улице понял, что девушка на коммутаторе в судебно-медицинской экспертизе слышала это. От стыда у него заломило затылок. Он обернулся и окинул взглядом здание, но никто не смотрел ему вслед.
Подходя к Маннерхейминтие, Харьюнпя уже не сердился на Лаукама. Не виноват он, что руководство уголовной полиции не может отстоять свои интересы и добиться, чтобы им выдали нужное количество машин. «Рейндж-роверов», длинноносых «вольво» и подобных им автомобилей было в достатке лишь в тех подразделениях, руководители которых умели льстить и ходили на нужные обеды. В уголовной же полиции жили потихоньку, не спеша. Там пользовались предельно заезженными «фольксвагенами» и «ладами», на ремонт которых тратили такие суммы, что на них можно было обновить весь автопарк. Примерно половина автомобилей стояла всегда на ремонте, так что с транспортом было туго.
Харьюнпя не стал добираться до перехода. Он отважно двинулся через Маннерхейминтие, но вынужден был остановиться на середине улицы, недооценив скорости приближавшегося автобуса. Он весь сжался, сунул даже руку в карман пиджака — так надежней, ближе к себе. Кончиками пальцев нащупал фарфорового слоника. Слоник изменился, словно бы стал меньше, фарфор загрубел и потрескался. Харьюнпя вдруг пришло в голову, что слоник умер у него в кармане, так ни разу и не побывав на свету. Мощная жестяная стена синего автобуса пронеслась мимо всего в полуметре от его лица. Харьюнпя чуть не задохнулся от выхлопных газов. Он помнил, что хоботок у слоненка, принадлежавшего Эдит Агнес Рахикайнен, был надломлен, а сама она умерла. Полуприцеп пронесся за его спиной, спереди пролетел другой автобус. Он вспомнил, во что может превратиться человеческое тело под двумя парами колес, и содрогнулся от своего легкомыслия. Смерть на дороге была, по его мнению, самой глупой и никчемной из всех смертей, ибо она была всего лишь следствием неразумного поведения человека на улице и допущенных им при этом мелких небрежностей.
Остановка в потоке транспорта произошла так внезапно, что Харьюнпя еще секунды две продолжал стоять посреди улицы с зажмуренными глазами. Почувствовав, что шум прекратился, он выдернул руки из карманов, перебежал через все полосы движения и, не оглядываясь, перелез через ограду трамвайной остановки. Переводя дух, он уже предвидел, как недоуменно уставятся на него прохожие. Он чувствовал их недоброжелательство и осуждение, он не смел оглянуться. Он даже попытался вообразить, что на остановке стоит убийца Континена — хотя бы вон тот мужчина с коричневой кожаной сумкой в руке, или та сильно накрашенная девица. На дальнейшее, однако, фантазии у него не хватило. Он знал, что убийцу нужно искать среди крепких здоровяков, живших на разные пособия, — среди тех, что шагают тебе навстречу и, поравнявшись, цедят сквозь зубы: «Жизнь или кошелек!»
Добравшись наконец до места и доставив содержимое сумки в Центральную уголовную полицию, в отдел по исследованию отпечатков пальцев, он заехал еще на Софиянкату и переписал на машинке рапорт о вскрытии, наделав кучу опечаток. Без четверти два Харьюнпя добрался наконец до своей квартиры. Он не прикоснулся к бутербродам, приготовленным для него Элизой, — только выпил два стакана молока. Он не смог заставить себя принять душ, не говоря уже о том, чтобы вычистить зубы. Сев на край кровати, он стянул с себя верхнюю одежду и даже носок с левой ноги — на большее его не хватило. Он рухнул на кровать, укрылся с головой одеялом и погрузился в тяжелый, близкий к беспамятству сон.
Проснулся Харьюнпя только в восемь вечера. Он проснулся оттого, что Паулина дергала его за нос. И это хорошо удавалось ее маленьким пальчикам.