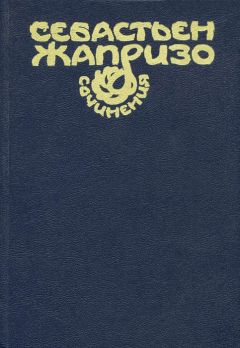На площади Бастилии, когда она уже вышла из автобуса и шла, размахивая руками, потому что забыла сумочку в четыре часа в конторе, она впервые подумала: «Я уже была здесь, но тогда он был рядом со мной, это было и ужасно, и чудесно, если бы мама об этом узнала, она бы упала в обморок, но мне наплевать на все, наплевать, тем хуже для меня, я плачу».
Она плакала, проходя через площадь, плакала, как последняя дура, настоящая тетеря, мне наплевать, а те, кому это не нравится, могут на меня не смотреть, мне наплевать, какая огромная площадь, черная и блестящая, окруженная со всех сторон далекими огнями фонарей. Дала ли я ему денег, чтобы он смог хотя бы поесть в поезде?
Здесь она уже была вместе с ним. В каком бы месте этого сырого промозглого города она теперь ни оказалась, она будет вспоминать, что уже побывала здесь с ним в эти два дня. Когда же это было? В субботу. В такси.
«Не стану прямо сейчас возвращаться домой, — решила она. — Пойду пешком до Пале-Руаяль, найду какое-нибудь не очень ярко освещенное кафе, закажу глазунью из двух яиц, буду есть и читать газету, а потом отправлюсь пешком на улицу Бак. Поднимусь к себе, приведу в порядок комнату, словно ничего и не случилось. Или же зайду в какой-нибудь бар и буду валять дурака. Буду болтать с парнями, танцевать, выпью что-нибудь покрепче, чтобы закружилась голова и я смогла бы обо всем позабыть, но что может заставить меня позабыть Даниеля?»
Три дня назад, в пятницу вечером, она расцеловалась с матерью и младшим братишкой на вокзале в Авиньоне. Села в поезд, у нее были крепкие зубы маленькой хищницы и счастливая улыбка, при виде которой мама сказала:
— Тебе совсем не жаль, что ты расстаешься с нами?
А она ответила:
— Мы скоро увидимся! На Рождество! Всего через три месяца, это же пустяки. А что значат три дня?
Он стоял, вытянувшись, как солдат на посту, в тамбуре возле туалета, у самой «гармошки», ведущей в соседний вагон, готовый перейти туда, как только появятся контролеры, светловолосый, с перекинутым через руку плащом, в мятом твидовом костюме, у него были глаза побитого пса и на редкость дурацкий вид.
Поезд уже отправляли. Он наклонился, чтобы помочь ей поднять в вагон чемодан, потерял равновесие и вот тогда-то и порвал ей первую пару чулок.
Она сказала ему со злостью: «Пустите, я уж как-нибудь справлюсь сама». У нее еще болела лодыжка, по которой он ее стукнул. Петли на чулке поползли, и закрепить их было уже невозможно. Не стоило даже доставать лак для ногтей, чтобы склеить края дырки.
Он не извинился, он не умел извиняться. Он стоял рядом, дурак дураком, и сказал:
— А он тяжелый. — И, глядя своими печальными глазами, как она приподнимает подол, чтобы взглянуть на порванный чулок, добавил (этого ей только не хватало): — Теперь только на выброс. У меня на подошвах железные штуковины, мне их мама поставила, я всем рву чулки.
Поезд уже шел полным ходом, и она, придерживая платье и прижав смоченный слюной палец к порванному чулку, подняла на него глаза и по-настоящему разглядела его. Красивое лицо, лет пятнадцать или шестнадцать, вид как у побитого пса, и тогда она сказала, что все это не имеет значения, все это ерунда. И сама донесла чемодан до купе.
В середине коридора у открытого окна стояла женщина, Жоржетта Тома, и длинноносый мужчина, Кабур. Женщина, чтобы пропустить ее, слегка втянула зад, взглянула на нее, и глаза ее. Бог знает почему, она никогда не забудет (может быть, потому, что та умерла); она смотрела как человек, который ее, Бэмби, знает, глаза эти словно говорили: «А вот и она».
В купе была особая атмосфера, было душно и жарко. Нижнюю полку справа занимала женщина, нижнюю слева — мужчина.
Бэмби легла на свою полку, думая о маме, о своих трех платьях, которые неплохо было бы достать из чемодана и повесить на плечики, о разорванном чулке. Она под одеялом стянула с себя чулки, а затем, поворачиваясь с боку на бок, и платье. «Не могу же я спать одетой, интересно, как поступают другие?»
Блондинка, мадам Даррес, про которую Даниель сказал ей позднее, что она актриса, была в розовой пижаме и розовом халатике. Она читала иллюстрированный журнал и время от времени поглядывала на Бэмби. И, наконец, сказала:
— У вас есть лампочка над головой.
Бэмби включила свет, ответила: спасибо, теперь все хорошо продумано в поездах.
По правде говоря, она впервые ехала в подобном вагоне. Она аккуратно уложила свое платье у самой стены, поставила сумку в ногах, спрятала чулки под подушку и, засунув в рот вишневую карамельку, принялась читать взятую с собой книгу. Чуть позже, широко распахнув дверь, в купе вошли контролеры.
— Есть. Бегу! — сказал официант. — Глазунья из двух яиц и к ней кружка пива.
Бэмби сидела одна за столиком в небольшом кафе на Пале-Руаяль.
Она во второй раз перечитала статью во «Франс Суар», но не нашла ничего нового. Лишь более многословно было изложено то, о чем уже сообщалось в утренних выпусках. Говорилось, что уголовная полиция очень сдержанна, что в ближайшее время преступник будет арестован. Она напрасно искала имя инспектора Грацциано, о котором Даниель сказал ей: «Вот ему я доверяю». У нее, верно, были красные глаза, потому что официант, подавая глазунью, пристально посмотрел на нее, а уходя, дважды оглянулся. Ей захотелось достать из сумочки пудреницу, но тут она вспомнила, что забыла ее в конторе, на улице Реомюра. Кошелек, к счастью, был у нее в кармане пальто вместе с мокрым от слез платком «Понедельник» и конфетами, которые Даниель отказался взять.
Мысль вышить на носовом платке «Понедельник» пришла в голову ее маме. Так она вышила на платках все дни недели. В поезде, когда она впервые встретилась с Даниелем, случилась целая история с платком «Пятница», красным в мелкую зеленую клетку.
Ей пришлось приподняться и, придерживая на груди одеяло, чтобы не показаться в бюстгальтере, протянуть руку к своему голубому пальто. Она подала билет тому из контролеров, который стоял к ней ближе. Второй контролер проверял билет крашеной блондинки. Потом они разбудили мужчину, спавшего внизу под полкой Бэмби, и он, ворча, с трудом открыл глаза.
Воспользовавшись тем, что никто на нее не смотрит, она натянула голубое пальто и спустилась вниз. Сунув ноги в туфли, она вышла в коридор. Жоржетта Тома и Кабур все еще болтали, стоя рядом у открытого окна. Молодая красивая брюнетка курила, выпуская большие клубы дыма, которые ветер гнал обратно в коридор. По черному небу проплывали черные деревья.
Туалет был занят. Она перешла через «гармошку» в соседний вагон, но там в туалете тоже кто-то был, и она вернулась. В «гармошке», где пол ходил ходуном у нее под ногами, как в аттракционе на ярмарке, ей пришлось, чтобы сохранить равновесие, обеими руками держаться за стены, и она испачкала пальцы.
Она подождала еще немного. Она слышала, как контролеры по очереди входят в другие купе: «Простите, дамы-господа…». В конце концов она подергала дверь за ручку, как это делают в школе, когда ждать невмоготу, а туалет никак не освобождают.
Внезапно дверь отворилась, и стоило ей увидеть его испуганные глаза, его затравленный вид, как она сразу все поняла. И впрямь, как в школе, когда она еще не сдала экзамен на бакалавра, она как бы вернулась на три или четыре года назад: лагерь преподавателей и лагерь учеников, секреты, фискальство, страх перед надзирателями.
— Что вам надо?
Он вскинулся, как маленький задорный петушок, увидев, что это не контролеры (надзиратели). Она ответила:
— Всего лишь сделать пи-пи! Это был тот самый мальчишка, который порвал ей чулок, у него были светлые волосы и совершенно растерянный вид, он прошептал чуть ли не плача:
— Не стойте здесь. Уходите. У меня нет билета.
— Нет билета?
— Нет.
— И поэтому вы там заперлись? Чего вы этим добьетесь?
— Не говорите так громко.
— А я и не говорю громко.
— Нет, вы говорите громко.
Тут они оба услышали шаги контролеров (голоса надзирателей), которые вошли в последнее купе вагона, всего шагах в десяти от них. «Простите, дамы-господа…»
И тогда он схватил ее за руку, это был его первый решительный жест. Он сделал это так резко, что она чуть не вскрикнула. Он втянул ее в туалет. И запер дверь.
— Что вы делаете? Выпустите меня! Он зажал ей рот рукой, совсем как Роберт Тейлор Деборе Керр на немецком корабле в фильме, который она видела в Авиньоне месяца два назад, но у Роберта Тейлора были усы, он был черноволосым и мужественным, тогда как этот мальчишка умолял ее, глядя на нее глазами испуганного ребенка.
— Не разговаривайте, умоляю вас, помолчите! Они стояли рядом перед запертой дверью. Она хорошо видела себя в большом зеркале над умывальником и думала: «Такое могло случиться только со мной, если бы мама меня увидела, она бы упала в обморок».