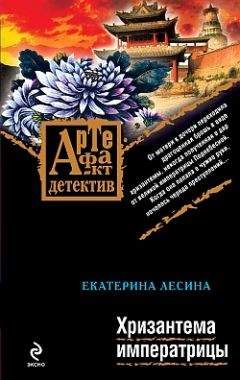– Знаешь, – совсем другим, очень серьезным и оттого пугающим тоном произнес Герман. – Я сначала подумал, что ты здесь не случайно появилась, что тебе от Императрицы что-то нужно.
– Что?
– Откуда мне знать. От нее всем что-то да нужно.
– И тебе?
– И мне.
Ну об этом могла бы и не спрашивать, он ведь на коллекцию нацелился, рассчитывает получить после смерти Дарьи Вацлавовны. И квартиру, наверное, тоже. И деньги. У нее же есть какие-то деньги, чтобы не отказывать себе в маленьких капризах, вроде апельсинового джема.
Стало грустно и очень жалко Дарью Вацлавовну. И Германа тоже, потому что он ведь хороший на самом деле, просто у него, наверное, жизнь сложилась так, что он зачерствел.
– Что, думаешь, я – сволочь? Сижу, жду наследства? А и правильно, и сволочь, и сижу, и жду. Я на старуху вышел, к ней подход нашел, я вообще, если хочешь знать, содержу ее!
Но ведь не по доброте душевной. Нет, Леночка не сказала этого – зачем обижать человека – но он и так понял, без слов. На этом разговор был окончен, Герман завел машину и к дому ехали в молчании. Остановившись у самого подъезда, он заглушил мотор, и единственным звуком, нарушавшим тишину, остался шум дождя.
В тишине неуютно. Особенно в той, которая во время дождя.
Тук-тук-тук, капли по стеклу. Стук-стук-стук, каблучки по полу. Скрип и полоска света из приоткрывшейся двери, а на ней тень. Стоит, не шевелится, смотрит, и взгляд ее проникает сквозь толстое ватное одеяло. Нужно замереть и не шевелиться. Не дышать. Тогда тень уйдет.
Но не шевелиться тяжело, под одеялом жарко и пятки чешутся, и в носу свербит, и вскочить бы, закричать... тук-тук-тук, все быстрее тарабанит дождь по подоконнику. Стук-стук-стук, сердито цокают каблуки. И только пол не скрипит, но тень все ближе.
Запах ландышей, липкий как пот, тянется за нею, вползает под подушку, заставляя задержать дыхание. А сверху наваливается тяжесть... и она пытается кричать, вырваться, но тень сильнее, тень...
– Тише, тише, успокойся, хорошо все, – ее держала не тень, а Герман. Крепко и нежно, гладил, шептал, что все хорошо и ничего страшного, что это только гром и не нужно бояться. А она не боялась, она плакала, уткнувшись в шершавую ткань куртки, которая пахла – все-таки пахла, Леночка четко ощущала этот страшный аромат – ландышами.
Ландыши она не любит почти так же, как хризантемы.
– Ну? Успокоилась? Что ж ты так? Это ведь дождь, просто-напросто дождь. Вода с неба.
– Вода, – Леночка попыталась отстраниться. Неудобно-то как вышло, эта истерика... раньше у нее никогда не было беспричинных истерик, и вот нате, пожалуйста. – Всего лишь вода. С неба.
Стучит по капоту, расплывается серостью по стеклу, вытягивается нитями в свете фар. Вода. Нечего бояться. И теней тоже, это глупое воспоминание, чужое.
– Держи, – Герман протянул платок и сам же вытер слезы. – Вот так давай. Немного посидим, ладно? А потом пойдем. Сначала к тебе, умоешься, приведешь себя в порядок, а то она ж непременно прицепится. Она вообще любит цепляться к людям, хотя ты ей нравишься.
– А ты?
– И я. Наверное. Но не уверен. Иногда мне кажется, что она нарочно издевается, пытается вывести из себя, иногда, что ей просто одиноко. А вообще у тебя тушь размазалась.
Именно это его замечание про тушь окончательно привело Леночку в сознание. Она отобрала платок, осторожно промокнула глаза, с неудовольствием отметив темные пятна на ткани – и вправду размазалась, а утверждали, что водостойкая. Грустно подумалось, что выглядит она сейчас преотвратно, и что Герман теперь непременно запомнит ее в этом виде, а значит, изменить впечатление будет невозможно... в сумочке есть пачка бумажных салфеток и надо привести себя в порядок. Хотя, конечно, лучше дома, но дома все-таки страшно – с ней явно происходит что-то не то.
– Вы извините меня, пожалуйста, – сказала Леночка, складывая платок. Теперь мысли ее приняли совершенно иное направление: удобно ли вернуть сейчас или нужно постирать, погладить, а потом вернуть? И как вообще донести до Германа, что нет у нее привычки падать в обморок при звуке грома и уж тем более рыдать на плече малознакомых типов.
– Мы ж вроде как на «ты» были.
– Ну... извини меня, пожалуйста, – исправилась Леночка. И открыв дверцу, решительно выбралась из машины. В лужу. В огромную лужу. От обиды она снова разрыдалась, впрочем, теперь слезы можно было списать на дождь.
В подъезд она влетела бегом, чувствуя, как больно шлепают по пяткам влажные подошвы босоножек, прилипли к ногам мокрые колготы, и с волос ледяные капли воды катятся по позвоночнику. Злость подгоняла, и только преодолев половину лестничного пролета, Леночка поняла, что в подъезде темно.
Совсем темно.
И очень-очень тихо.
– Герман? – Леночка прижалась к стене и вздрогнула, до того скользкой и холодной та оказалась. – Г-герман?
Где он? Остался в машине?
– Скоро появится. Он очень скоро появится, – шепотом сказала Леночка и поднялась на одну ступеньку. А потом еще на одну. На площадке окно имеется, а значит и светлее будет. И вообще нечего бояться, ведь подъезд-то свой, родной, знакомый. Ну почти родной и почти знакомый, но все равно люди тут приличные живут.
Дом высокой культуры и быта – вспомнилось вдруг. И Леночка, сдавленно хихикнув, преодолела сразу две ступеньки. И гораздо смелее – третью. А когда она совсем было набралась храбрости и даже отлипла от стены, нащупав в темноте перила, сзади раздался тихий шепот:
– И куда это мы так спешим? И откуда так поздно возвращаемся?
Сейчас ее убьют. Понимание пришло вместе с оцепенением, охватившим ее от пальцев до кончиков волос. Леночка ощущала каждую прядку, и те, которые шею щекочут, и те, что к щекам прилипли, и те, что сбились колтунчиками и нужно бы вычесать... и заусеницу на безымянном пальце ощущала. И даже ремешок от сумочки поистершийся и грозящий лопнуть под тяжестью. А вот она сама, Леночка Завадина, будто бы исчезла, растворившись в ужасе и темноте.
– Хорошие девочки не должны гулять по ночам, – щеки коснулось что-то плоское и холодное. – Хорошие девочки сидят дома...
Волосы приподняли, собрали в пучок, потянули, заставляя запрокинуть голову. Небольно, скорее странно. Она – пластилиновая кукла. А пластилин кричать не может. Он вообще ничего-то не может.
– Потому что с теми, кто гуляет по ночам, случаются неприятности, – продолжали нашептывать на ухо. Леночка закрыла глаза.
Кукла. Она – кукла. Пластилиновая. Ненастоящая. И все, что вокруг, тоже не настоящее. Особенно шепчущий человек... ненастоящий-ненастоящий-ненастоящий.
Вот ее разворачивают, вот толкают в спину, вот она катится по ступенькам, пытаясь сжаться комком, чтобы не так больно, а где-то вверху хлопает дверь.
И входная тоже. И свет загорается.
– Лена? Господи, Лена... давай, вставай. Хотя нет, лучше сиди. Где больно? Руки? Покажи мне руки. Так не болит? А вот так? А дышать? Стой, не дергайся, все хорошо, я с тобой. Ну тебя ни на минуту одну оставить нельзя. Упала? Ноги... вот, вытягивай ноги. Да, солнышко, красивые, и главное, что целые. Подняться можешь?
Герман вернулся. Леночка отметила этот факт наряду с другими – с мокрыми следами на ковре – ее собственными и одинокими. И с тем, что лампочка горела очень даже ярко, заливая подъезд теплым электрическим светом. И что человек-тень исчез. А может, его вообще не было? Это ее воображение, больное-больное воображение.
– Я сошла с ума, – сказала она Герману, послушно обнимая его за шею. Она бы и поднявшись не отпустила, но это было совсем неприлично, а сейчас отчего-то особенно важно, прямо-таки жизненно необходимо стало соблюдение приличий. И оттолкнув Германа, Леночка вцепилась в перила. – Я совсем-совсем сошла с ума. И с лестницы упала. Меня столкнули, но, наверное, я только решила, что меня столкнули, а сама – упала.
– Кто столкнул? – Герман подобрал сумочку, повесил ее на плечо, и это было смешно. Он большой, а сумочка маленькая. Желтенькая. С черным замочком.
– Тихо, солнышко. Все уже хорошо. Сейчас домой и в душ, ты вся мокрая. Коленку разодрала. Кто тебя столкнул?
– Не знаю. Наверное, никто. Наверное, мне показалось. Я зашла, а тут темно, и он сзади. Сказал, что если гулять по ночам, случится неприятность. А потом столкнул. Больно, – она вытянула ладони. Грязные. И ободранные.
Герман осторожно потрогал ладони, потом зачем-то коснулся шеи, хмыкнул как-то не по-доброму и, обняв Леночку за талию – неприлично же! – потащил вверх. Шел он быстро, Леночка едва-едва поспевала, перескакивая через ступеньку. Упасть она не боялась – Герман крепко держал – но продолжала думать о приличиях и грязных ладонях.
– Ключи в сумочке? – поинтересовался он, остановившись перед дверью. – Найти сумеешь?
Леночка не сумела, она не помнила, где ключи и есть ли они вообще, а кармашков в сумочке было много. И всякой всячины в кармашках тоже. В конце концов, Герман не выдержал, отобрал и, перевернув сумочку, тряхнул над ковриком – покатилась помада, шлепнулась пудреница, бесшумно выпал клубок колготок и белый пакетик с прокладкой, зазвенели ключи.