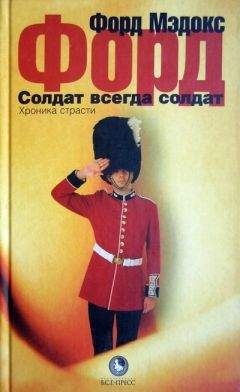– Вы напрасно сердитесь, – заметила гадалка, – не верят в сглаз и порчу только атеисты.
– Ну, вам, вероятно, видней, – вздохнула Катя. Ей не хотелось вступать с какой-то неизвестной Беллой Юрьевной в теософскую дискуссию и объяснять, что всякие сглазы, порчи, гадания к настоящей вере отношения не имеют. Верующий человек старается держаться от этой бесовщины подальше. И атеизм здесь ни при чем, хотя он тоже по сути своей суеверие, то есть вера в пустоту, в смерть. Но щепки, которые зашила в подушку какая-то сумасшедшая, вовсе не повод, чтобы обсуждать эти сложные вопросы, тем более с гадалкой.
– Будьте осторожны. Катя. Мне вас искренне жаль, – хрипло произнесла Белла Юрьевна.
– Спасибо. Всего доброго, – ответила Катя. Остатки выпотрошенной подушки и пакет с мистическими принадлежностями Катя вынесла во двор и бросила в мусорный контейнер.
– Надо было сжечь! – сказала Жанночка.
А на следующее утро, в восемь часов, Катю разбудил первый звонок телефонной шептуньи.
«Сегодня ты, сушеная Жизель, сломаешь ногу…»
С тех пор прошло больше двух недель. Звонки, конечно, донимали, нервировали, а про бомжиху и подушку Катя успела почти забыть. И вот теперь, сидя ночью на кухне, она вдруг вспомнила, что во всей той глупой истории ее по-настоящему насторожили две детали.
Бомжиха ей показалась странной, какой-то театральной. Во-первых, от нее не пахло. Она вела себя как пьяная, но перегаром от нее не разило. Она выглядела очень грязной, но не было вони мочи и немытого тела.
Во-вторых, она не взяла денег ни у Жанночки, ни у Кати. Настоящая уличная попрошайка ни за что не побрезговала бы милостынькой.
Чайник давно закипел, Жанночка поставила на стол чашки, вытащила из буфета банку вишневого джема и вазочку с печеньем.
– Бомжиха была не настоящая, – задумчиво произнесла Катя, отхлебнув чаю, – театральная была бомжиха.
– Что? – не поняла Жанночка.
– Я просто вспомнила сейчас ту историю. От настоящей бомжихи воняло бы перегаром, мочой, помойкой. Ты же знаешь, какое у меня обоняние… И деньги она взяла бы непременно. Так что потусторонние силы ни при чем. Идиотский маскарад. Глебу всегда нравились эксцентричные барышни, склонные к мистике. Я для него была слишком трезвой и рассудительной. Ему не хватало чего-то этакого, роковых метаний, сверхъестественных страстей. Вот и нарвался на сумасшедшую.
Жанночка долго молчала, старательно размешивала сахар в своей чашке.
– Так, может, эта сумасшедшая и выстрелила? – произнесла она еле слышно.
– Мы уже с тобой это обсуждали. Не стоит идти по второму кругу.
– Не стоит, – кивнула Жанночка. – Знаешь, в тот вечер, когда вы уехали на премьеру, а потом все произошло… В общем, я убирала и запустила стиральную машину.
– Это ты к чему? – не поняла Катя.
– Это я к тому, что я постирала оба халата – твой и Глеба. В ту ночь, когда Глеба убили, никакого чужого лифчика в кармане не было.
– Чем ты занята? – кричала из кухни Ирина Борисовна. – Ты должна была сегодня вымыть гриб.
Маргоша сидела за письменным столом над пособием по химии для поступающих в вузы, но смотрела не в книжку, а в маленькое круглое зеркальце, которое стояло на раскрытой странице. Веко одного глаза было покрыто тонким слоем бледно-салатовых теней, на втором веке она тщательно растушевывала тени другого цвета, голубовато-бирюзового.
– Ты слышишь меня? Ты ничего не делаешь по дому, живешь здесь как в гостинице! – продолжала кричать из кухни Ирина Борисовна.
Маргоша поднесла зеркальце почти вплотную к лицу, потом вытащила из ящика письменного стола бутылочку жидкого лосьона и не спеша ваткой стала стирать бледно-салатовые тени. Нет, это не ее оттенок. Бирюзовый тон лучше.
Ирина Борисовна влетела в комнату, грубо дернула дочь за руку.
– Ах ты, дрянь! Это так ты готовишься к экзамену?
– Мам, ну надо быть совсем дебилкой, чтобы не сдать экзамены в этот твой несчастный мясо-молочный институт, – спокойно проговорила Маргоша и аккуратно промокнула глаз косметической салфеткой, – а гриб я сейчас вымою, не волнуйся. Ты, мамуля, главное, не волнуйся. Нервы береги.
Она встала, чмокнула Ирину Борисовну в полную круглую щеку и танцующей походкой отправилась на кухню. Разношенные серо-коричневые тапки сваливались с ног. Ситцевый халатик был совсем стареньким, ветхим. Его еще в восьмом классе Маргоша сшила на уроке труда.
– Нервы береги! Будто тебе есть дело до моих нервов! – кричала ей вслед Ирина Борисовна. – Вся в отца! Семнадцать лет девке, ни копейки в дом не приносит! Ни копейки! Косметику покупать, морду малевать – так на это у тебя есть деньги, а матери дать – нет! Долго еще мне тебя, дармоедку, кормить?
Белый пластик кухонного стола давно облупился, потрескался. Клетчатые занавески выцвели, стали совсем ветхими и бесцветными. Лук в молочных картонках не прорастал, сразу гнил, и запах напоминал вокзальный сортир.
Евгений Николаевич успел уйти к женщине, от которой пахло дешевыми духами, пожить с ней несколько месяцев. Вернулся совсем бледный, похудевший, в трикотажных тренировочных штанах вместо брюк, в войлочных чужих ботах «прощай, молодость» вместо своих новых кожаных ботинок.
– Ирка, прости-и! – жалобно канючил он. – Пить брошу, начну зарабатывать… Ирина Борисовна не простила, но и не выгнала. Пить он не бросил, зарабатывал мало. Так и жили.
Маргоша запустила руку в желтую грибную жижу и попыталась подцепить ладонью склизкое чудовище.
«Поручик взял ее руку, поднес к губам. Рука, маленькая и сильная, пахла загаром. И блаженно, и страшно замерло сердце при мысли, как, вероятно, крепка и смугла она вся под этим легким холстинковым платьем…» – прикрыв глаза, читала наизусть Маргоша.
Ко второму туру творческого конкурса в Театральное училище им. Щепкина она готовила рассказ Бунина «Солнечный удар». В Школе-студии МХАТ все кончилось на первом туре. Во ВГИК она не стала подавать документы. На актерское отделение конкурс для девочек оказался чудовищным, сто семьдесят человек на место. А вот в Щепкинское первый тур уже прошла, и вполне успешно.
Плотное тяжелое тело чайного гриба вырывалось из пальцев, словно живое. Гриб ненавидел Маргошу, и Маргоша отвечала ему взаимностью.
– Если ты собираешься идти в театральный, то домой можешь не являться! – кричала Ирина Борисовна из комнаты, шваркая веником по вытертому ковру. – В мясо-молочный пойдешь как миленькая! Ты слышишь? Хочешь жрать – пойдешь в мясо-молочный!
«…лакей затворил дверь, поручик так порывисто кинулся к ней и оба так исступленно задохнулись в поцелуе, что много лет вспоминали потом эту минуту…» – повторяла Маргоша очень медленно, стараясь, чтобы голос звучал глубоко и красиво.
Трехлитровая банка выскользнула из рук, шарахнулась о чугунный край раковины, дно откололось, гриб тяжело плюхнулся на пол, дернулся, как живой, в желтой луже на линолеуме. Ирина Борисовна влетела в кухню:
– Так я и знала! Дрянь такая!..
Маргоша молча взяла веник у нее из рук, собрала осколки вместе с мокрым трупом чудища-гриба на совок, скинула в помойное ведро, мягко отстранила кричащую Ирину Борисовну, вышла на лестничную площадку.
– Спи спокойно, дорогой товарищ! – Она захлопнула железную крышку мусоропровода.
Осколки со звоном сыпались по трубе. Труп гриба падал тяжело и беззвучно.
– Мамуль, мне надо в библиотеку, – спокойно сообщила она, вернувшись в квартиру.
Через сорок минут она стояла в толпе девочек и мальчиков у высокой дубовой двери в старинном здании Театрального училища им. Щепкина. За дверью заседала приемная комиссия. Шел второй тур экзаменов. Курс набирал народный артист, профессор Константин Иванович Калашников.
Кончался июнь 1991 года.
Оля Гуськова привыкла искать в реальных жизненных сложностях тайный мистический смысл, видеть за тяжелыми будничными проблемами нечто магическое, роковое.
Наступивший 1997 год Оля встретила одна на своей нищей кухне. За окном выл ветер, мела метель. В комнате за стенкой орал телевизор, стонала и охала бабушка. Оля стояла у окна, глядела в глаза своему зыбкому отражению. Ей казалось, там, за стеклом, плавает в снежном мраке ее невесомый счастливый и прекрасный двойник.
За стенкой в телевизоре стали бить куранты. Оле не с кем было чокнуться шампанским. Да и шампанского не было. В доме напротив светились окна, веселая компания выскочила во двор, загрохотали петарды, послышался пьяный смех, женский визг. Всем было весело. Новый год.
Оле стало жалко себя до слез.
– Меня сглазили, – пожаловалась она своему зыбкому двойнику. – Откуда такая тоска? Почему мне так плохо? Жить не хочется… Может, кто-то заспиртовал жабу, долго смотрел в открытые мертвые глаза, произносил страшные магические проклятья и в них повторялось мое имя?