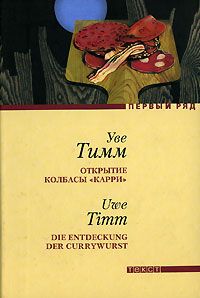С другой стороны, была больница, и долгое – лет пять, а то и больше – существование под врачебным присмотром, и диагноз, и карточка, и таблетки, которыми ее заботливо закармливала Евгения Романовна. Не понимаю, ничего не понимаю… а нож Деду отдам. Он единственный поймет, что мне не было резона убивать Любашу. И завернув пакет с ножом в газету – так, мне показалось, будет надежнее, – я спрятала его в кроссовок, а кроссовки – в коробку. Ничего умнее в голову не пришло, я лишь надеялась, что Дед появится вечером и избавит меня от необходимости принимать решение.
Но когда я спустилась к ужину, место Ивана Степановича пустовало. Значит, не вернулся из города или вообще решил прекратить игру, а про меня забыл… бывает, про меня вообще редко помнят.
– Добрый день, вы, наверное, Александра? – крупная, рыхловато-бледная девица близоруко щурилась. – А я Татьяна. Нас не представили, я днем приехала.
Она была не столько некрасива, сколько убийственно невыразительна: размытые, точно оплывшие черты лица, собранные в хвост волосы, растянутый свитер какой-то полудетской расцветки и вялая холодная рука.
– Татьяна у нас студентка. Отличница. Гордость семьи, – Мария почти нежно обняла сестру за плечи. – Дед ее любит, а она вот Деда избегает… дурочка.
– М-маша… – Татьяна залилась густым румянцем. – Перестань, пожалуйста.
– Ох, простите, все время забываю о том, что принято называть приличиями…
Пользуясь моментом, я отошла. Слушать перепалку сестер не было ни малейшего желания, кроме того, мне хотелось понаблюдать за Ольгушкой, попытаться понять, в самом ли деле она настолько безумна, какой пытается казаться, но то ли опыта не хватало, то ли наблюдательности – Ольгушка вела себя обычно. Тиха, незаметна, трогательно красива… да, единственно, что можно сказать – с каждым днем, проведенным вне больницы, она становилась все более очаровательной.
Ольгушка не похожа ни на кого из Бехтериных, она словно бы сама по себе, точнее сама в себе, а я по другую сторону ее мира.
Не понимаю. И она меня тоже.
Редкие свидания, ворованные ночи, когда душа то поет от радости, то стонет от печали, отказываясь принимать необходимость разлуки. Тяжкие дни, разрывающие такое недолгое счастье. Днем приходится жить «как раньше», то есть улыбаться, отвечать, иногда дерзить, иногда обижаться, а в мыслях одно – время. Час, еще один и еще, солнце уже клонится к закату, разливая по земле длинные черные тени, небо загорается багрянцем, значит, скоро уже…
Тяжелее всего последние минуты, когда только и остается вслушиваться в темноту дома. Вот хлопнула дверь – маменька отправилась к себе… и снова – почивать ушел отец. Тихий скрип половиц – ложатся спать слуги, еще немного выждать, моля о том, чтобы скорее все заснули, а сердце уже там, в беседке, в мягкой весенней ночи, напоенной запахами, богатой лунным светом и нежной тем теплом, что земля успела собрать за день.
Каждый раз Настасья боялась, что Дмитрий не дождется, уйдет. И каждый раз, завидев темный силуэт на старом месте, готова была плакать от счастья. Правда, по-настоящему заплакала она лишь единожды, в тот самый раз, когда столкнулась с приземленной стороной возвышенного чувства. Было больно и стыдно, будто в грязь упала, но Дмитрий уверил, что это пройдет, что боль естественна, а стыд – лишь отголосок мира благочестия, тогда как мир любви бесстыден.
Он оказался прав, и теперь Настасью не смущали моменты близости, да и тело ее, казалось, постепенно привыкало и даже стало отзываться на прикосновения теплом в крови и тягучей сладкой истомой, так напугавшей Настасью на первом свидании.
Как же давно это было… почти два месяца тому.
– Анастаси, ты меня слышишь? – Лизонька недовольно нахмурилась.
– Прости, немного замечталась. – Настасья выдавила из себя виноватую улыбку, на самом деле, если ей и было за что стыдно, то лишь за то всеобъемлющее яркое счастье, которое приходилось скрывать от домашних.
– Я просила, чтобы ты чуть повернула голову к окну, да, вот так. И не шевелись.
Лизонька третий день кряду пыталась написать портрет сестры, но что-то там не выходило, отчего сестра впадала то в уныние, то в несвойственную ей прежде раздражительность.
За окном не то весна, не то уже лето, раннее, только-только по-настоящему готовое полыхнуть, разлиться по округе жаром, подсушить чрезмерно яркую весеннюю зелень да изукрасить ее мелким бисером полевых цветов. Сад по ночам иной, запахов больше, звуков тоже, будто все вокруг спешит, торопится жить.
Дмитрий называет весну временем падающих звезд.
– Все равно не выходит, – Лизонька отложила кисти в сторону. – У тебя лицо такое вдохновенное, как… как у Мадонны.
Сомнительный комплемент. К картинам Настасья так и не привыкла, пусть прежний страх исчез, но и счастья от созерцания исполненного гневом лика она не испытывала, а в последнее время вообще только и видела, что исходящее кровью, а не огнем, сердце.
– Мари устраивает катание на лодках, – Лизонька тщательно вытирала руки полотенцем, на котором раздавленной травой оставались зелено-желтые пятна. – Завтра, матушка просила напомнить… ты ж у нас в последнее время все забываешь. Нервы не в порядке?
В Лизонькином голосе звучал неприкрытый гнев, и это было столь странно, что Настасья очнулась от размышлений. Лизонька, и сердится? Разве возможно такое? Возможно. Узкая нитка губ, сведенные над переносицей брови и обида в синих глазах.
– Прости. – Настасье стало совестно, неужто она настолько замечталась, что и вовсе о сестре забыла? Поднявшись, она обняла Лизоньку. – Прости меня, пожалуйста.
Лизонька всхлипнула и, вырвавшись, выбежала из комнаты. До чего все странно… непонятно. Кисть упала, и полотенце тоже, поднять надобно, заодно и поглядеть, что в картине до такой степени расстроило Лизоньку. Может, если похвалить работу, она успокоится.
С холста желто-зелеными русалочьими губами улыбалась женщина, смутно похожая сразу на обеих Мадонн, в одной руке она держала розу, во второй – сердце.
Настасья ладонью зажала рот, чтобы не закричать. Господи, нужно непременно сказать маменьке… нет, молчать, нехорошо жаловаться. Матушка запрет Лизу в комнате, будет поить горькими отварами, от которых клонит в сон, и запретит выезжать. А Лизонька любит балы… картина же… нервы, всего-навсего нервы.
И обмакнув кисть в черную краску, Настасья поспешно замазала неудавшийся портрет. А с Лизонькой она поговорит, вот после лодочной прогулки.
Ужин проходил почти в траурном молчании, которое выводило из себя больше ставших привычными ссор, а из головы все не шел Машкин рассказ. Может, и вправду дело не в наследстве, а в самой Любаше? Точнее, в ее вопиющей беспечности и умении влезать в неприятности? Игорь злился и в то же время отчаянно хотел, чтобы все оказалось именно так, чтобы не свой напал, не тот, кому привычно верить и невозможно подозревать. И успокаивал тем, что Любаша непременно очнется и расскажет правду, даже если не захочет говорить, Бехтерин эту правду силой вытряхнет.
Но тогда что произошло с Мартой? Нет, не увязывается, очень уж нехорошее совпадение выходит…
После ужина Игорь заперся в кабинете, в присутствии книг и в отсутствие родственников думать было легче. Еще бы картины убрать, но Дед против… привязался. А к чему тут привязываться? Обыкновенные портреты, правда, мать говорила, что Игорь органически не способен воспринимать искусство, может, поэтому и не понимает этой странной одержимости?
Тихий стук в дверь нарушил плавное течение мыслей.
– Можно? – Белобрысая стояла на пороге комнаты, не решаясь зайти внутрь. Смотрела исподлобья, с опаской и явным разочарованием.
– Заходи. Дверь закрой. – Игорь сам удивился тому, что разрешил войти. А она переступила порог и, плотно притворив дверь, подошла к картинам.
– Сегодня они другие.
– Кто?
– Мадонны. Всякий раз, когда захожу сюда, они другие. Ждут, наблюдают… загадка, правда?
– Неправда. – Игорь повернулся к картинам спиной. – Что надо?
– Все еще сердитесь? Извините, пожалуйста, я не хотела обидеть. А когда будет Иван Степанович? – Тихий голос, извиняющийся тон. Демонстрирует послушание?
– Завтра. Или послезавтра. Или спустя неделю… что надо?
– Да… дело к нему, разговор, точнее. Или не совсем разговор. – Александра запнулась. – Но, может быть, вы тогда передадите… вы ведь в курсе, что затея со свадьбой – фарс, что у меня не было причин нападать на Любу, я вообще в это время была в доме и не выходила. Правда, никто не подтвердит, они, наоборот, будут рады сказать обратное, лишь бы я убралась подальше отсюда и…