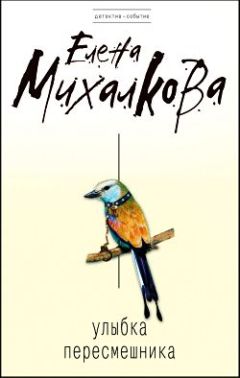Кирилл здорово изменился за то время, что Сенька провел на зоне: Головлев запомнил цепкого, злобного, как волчонок, веселого паренька из тех, кому море по колено, а обнаружил заматеревшего мужика себе на уме, свирепо огрызавшегося на любые попытки вмешиваться в его жизнь. Разница между ним самим и Кириллом была настолько разительной, как будто это Кручинин провел последние шесть лет на зоне, а не он, Сенька.
Одной из неприятных черт приятеля для Семена было отношение Кирилла к жене. Скромная, ласковая, как котенок, не сводившая с мужа сияющих глаз, она лучилась доверчивым счастьем, тянулась к Кириллу, как цветок к солнцу. «Ромашка, ей-богу… — умиленно думал Сенька, наблюдая за ней. — Вот же нашел себе жену Кручинин!» Его съедала не зависть и не плотское желание, а смутная тоска по тому семейному блаженству, какого у самого Сеньки не было и быть не могло: не из тех он был мужчин, от которых такие красавицы, как Вика, млели и таяли.
И тем обиднее ему было видеть, что Кирилл не ценит того, что имеет, а жену держит за прислугу. От этого у Сеньки возникало смутное ощущение, будто Кручинин высмеивает то, что было для него ценно. Он не мог облечь это чувство в подходящие слова, и в конце концов решил, что ему просто жалко молодую нежную Вику. «Эх, мне бы такую женщину…» У него сохранилась одна-единственная вещица — с того дела, — с которой Сенька отчего-то не смог расстаться: безделушка, но до того радующая глаз, что от нее на душе становилось теплее, словно от хорошей песни. Эту безделушку утром, когда Кирилл уже ушел рыбачить, Семен припрятал в свой тайничок — испугался, что потеряет, пока лазает по кустам, или, еще хуже, уронит в воду — и не будет у него больше безделушки. Про себя он уже решил, что подарит ее Вике, когда вернется. «Не забыть бы ее в тайнике-то… Или, может, в карман переложить?»
Вернувшись к шалашу, Сенька обнаружил, что Кирилл снова завалился спать. Это было еще одной новой его особенностью: спать помногу, в том числе и днем. «Дрыхнет как сурчина, — удивленно думал Семен, слушая храп приятеля. — Только пообедали, а он спать».
Он вновь, как и накануне утром, уселся перед шалашом, с тоской думая о том, что раньше Кирюха ни за что не бросил бы его сидеть одного, а привалился бы рядышком, и они завели бы разговоры за жизнь. Теперь такие разговоры и начинать было смешно — слишком разная была у них жизнь. «Получу от него то, что надо, — думал Сенька, вертя в руках почти готовый нож, — и разбежимся. Что я себя обманываю? Никакие мы больше не приятели».
Эта мысль, которую он старательно гнал от себя, огорошила его. Он и на поездку-то согласился в надежде, что все пойдет как прежде, и закончится непонятное молчание Кирилла по поводу их договоренности. Теперь стало ясно, что нужно не рыбку удить в дальней заводи, а поговорить с Кручининым напрямик, без всяких недомолвок и намеков. Не получается у него намеками, хоть ты тресни.
Погрузившись в невеселые думы, Семен встал и побрел куда глаза глядят, бессмысленно вертя в руках незаконченную работу. Пальцы его скользили по ручке ножа, ощупывали контур медведя, замирая на шероховатостях… Золотистые стволы сосен, пятна травы, по которым скользило солнце, гул невидимой отсюда реки — все действовало на него усыпляюще, и, чтобы не проваливаться в полусонное состояние, в котором мысли о Кирилле приобретали неприятную четкость, он решил отвлечь себя: присел на широкий поваленный ствол возле ямы, куда недавно сбрасывал камни, и стал рассматривать клинок и рукоять, сосредоточиваясь на том, что еще предстояло сделать.
Он просидел минут десять, совершенно потеряв счет времени, не думая ни о чем, кроме узора… И вздрогнул от неожиданности, когда из-за дерева на него упала чья-то тень. В первый миг Сеньке показалось, что это Кирилл решил напугать его, но, подняв голову, он обнаружил давешнего идиота, подходившего к нему враскачку, будто моряк. На большие голые ступни налипли иголки, из тонких царапин под коленками сочилась сукровица.
— Ба! Ты где прятался-то? — удивился Семен. — Вот черт неслышный. Я тебя и не заметил.
На этот раз вода не текла с дурачка, только зеленая потертая футболка была чуть влажной — видимо, он много времени провел на острове и успел обсохнуть. Остановившись перед Сенькой, мальчик внезапно похлопал его по голове, а когда тот недовольно отшатнулся, гулко расхохотался.
— Тихо ты, дурак!
Сенька обернулся в сторону шалаша. Показывать нового знакомца Кручинину ему не хотелось: тот, зверь такой, начнет издеваться над убогим, и тогда ничего хорошего не жди.
— М-м-м… — напрягшись, выдал дурачок, протянув к нему сверху вниз розовую пятерню. — Да-а-ай!
— Чего тебе дать? Покушать, что ли?
«Ну что за люди, а… Накормить им его жалко, что ли», — подумал Семен озлобленно в адрес незнакомых ему отца и матери дурачка. Он встал, переступил с ноги на ногу, вспоминая, сколько банок тушенки осталось в сумке.
— Да-а-ай! — громко повторил тот, тыкая пальцем куда-то Сеньке за спину.
— Нож тебе дать? — догадался Сенька, обернувшись. — Э-э, нет! Типа, спички детям не игрушка. Ума поднакопишь малость, тогда будешь такими штуковинами баловаться.
Парнишка сделал попытку обойти Головлева, не сводя глаз с поблескивающего в солнечных лучах лезвия. Взгляд его — взгляд завороженного человека — не понравился Сеньке. Он заступил дурачку дорогу и покачал головой.
— Нельзя! — И, видя, что идиот не отходит, легонько отпихнул его в сторону, начиная сердиться. — Иди, кому сказано! Ну!
В ответ тот с неожиданной силой пихнул Семена, и Головлев едва удержался на ногах.
— Да-а-ай! — настойчиво повторил дурачок и заморгал красными глазками. — Да-а-ай!
— Иди ты! Дай ему… А будешь пихаться…
Сенька не договорил. Набычившись, парень («Леша! — запоздало вспомнил Головлев. — Кажись, он вчера говорил, что его Лешей зовут») налетел на него, замутузил кулаками в воздухе, лишь изредка попадая по Сеньке. Но несколько ударов оказались для Семена чувствительными — он был не готов к такому нелепому нападению. Мальчишка, несмотря на то, что был крупнее щуплого Головлева, казался ему совершенно безобидным, и теперь он на своей шкуре прочувствовал, что ошибался.
Закрывая голову скрещенными руками, Семен попятился под градом ударов, и когда под ногой его исчезла опора, пошатнулся, вскрикнул, пытаясь удержать равновесие на краю ямы, и в ту же секунду кулак попал ему по носу.
В глазах у Сеньки потемнело от боли. Взбесившись, не разбирая, куда бьет, он выбросил вперед ладонь и ребром попал по чему-то мягкому.
— Ау-у-у!
Идиот взвыл визгливым голосом и обрушился на Семена всем весом. Оба полетели в яму, покатились по склону, обдираясь о сучья, и свалились на дно, врезавшись друг в друга. В живот Сеньке попали то ли локтем, то ли коленом, и изнутри его скрутило, а на затылке расплылось что-то горячее.
Сперва у него мелькнула глупая мысль, что он упал головой в теплую лужу, и Сенька даже представил ее себе: темную воду в асфальтовом углублении, прогретую солнцем, с плывущей в ней бензиновой радугой. В нос ему ударил привычный машинный запах. Но в следующий миг пришло осознание, что он не в городе, а в лесу, где неоткуда взяться ни бензину, ни асфальту, ни даже луже, потому что последний дождь был неделю назад.
Бензиновая радуга от этого не исчезла — только теперь переместилась и возникла у него перед глазами: мерцающая, перетекающая из одного цвета в другой, шибавшая в нос смолой и отчего-то уже не бензином, а резким потом, от которого хотелось чихнуть. Сенька сморщился, и от этого простого действия провалился туда, где не было даже радуги — только сплошная ровная чернота, пахнувшая чужим страхом и долю секунды звучавшая для него как затихающее скуление.
Татьяна услышала поскуливание из сарая, когда возвращалась с огорода, отряхивая на ходу от земли вырванный из грядки пучок луковиц. От удивления она застыла на месте, и сухой комок брякнулся ей на ногу. Нахмурившись, Таня оглянулась на теплицы, в которых сквозь пленку мутнели два силуэта, и подумала, не позвать ли отца, но в следующую секунду решила, что выгонит собаку и сама. Правда, она побаивалась собак, но просить о помощи отца не хотелось. Да и мать тоже.
Она зашла в полутемный сарай и постояла, дожидаясь, пока глаза привыкнут к темноте. Поскуливание прекратилось, и Таня настежь распахнула дверь, надеясь, что собака выскочит сама. «А вдруг сука щенится? Тогда не выскочит». На всякий случай Таня нащупала слева от косяка старую лопату и перехватила древко покрепче.
В углу зашевелилось, и вдруг она поняла, что никакая это не собака, а ее Лешка — сидит там, обхватив колени руками, и плачет, будто скулит. Она ахнула, отбросила ненужную лопату в сторону и бросилась к нему.
— Господи, Алешка! Маленький мой, что случилось?