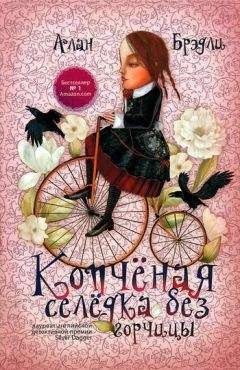Я глянула на отца, проверить, смотрит ли он на нас, но он не смотрел.
— Николас Бретон называл ее хорошей плотной едой для грубого желудка, — продолжила она, изгибаясь и прихорашиваясь в кресле. — Он также сказал, что старая морская щука — это вид рыбы, на случай если ты не знаешь, — все равно что камзол без геральдической эмблемы, что означает слугу, который не носит герб своего хозяина.
— Дафна, пожалуйста… — произнес отец, не поднимая глаз, и она уступила.
Я знала, что они имеют в виду — и думают, что я не понимаю, — Доггера. Военные действия в Букшоу таковы — невидимые и временами безмолвные.
— У Фостеров новый корт для бадминтона, — внезапно сказала Фели, ни к кому конкретно не обращаясь. — Шейла собирается использовать старый для парковки своего «даймлера».
Отец что-то проворчал, я видела, что он больше не слушает.
— Она такая стильная штучка, — продолжила Фели. — Заставила Копли вынести десертные тарелки на южную лужайку, но вместо мороженого сервировали улиток-эскарго! Мы ели их сырыми, как устриц. Так захватывающе!
— Ты бы лучше побереглась, — заметила я. — Сборщики улиток иногда по ошибке подбирают пиявок. Если проглотишь пиявку, она вылезет из твоего желудка наружу.
Лицо Фели побелело, как стена.
— Было что-то такое в «Хрониках Хинли», — с энтузиазмом добавила я, — недели три назад, если я верно припоминаю, о мужчине из Святой Эльфриды — это недалеко отсюда, кстати, — который проглотил пиявку, и пришлось…
Но Фели отшвырнула кресло и вылетела прочь.
— Ты снова провоцируешь сестру, Флавия? — спросил отец, подняв глаза от журнала и заложив указательным пальцем место, где читал.
— Я пытаюсь обсуждать текущие события, — ответила я. — Но ее, похоже, это не очень интересует.
— А, — сказал отец и продолжил читать о дефектах в печатных формах двухпенсовых синих марок 1840 года.
Когда отец присутствовал за столом, мы вели себя хотя бы наполовину прилично.
Я удалилась почти без затруднений.
Миссис Мюллет на кухне пытала труп цыпленка бечевкой.
— Их не пожарить как следует, если хорошенько не связать, — сказала она. — Так мне говаривала миссис Чедвик из Нортон-Олд-Холла, а она должна знать. Это она меня научила. Напоминаю тебе, что это было во времена леди Рекс-Уэллс, задолго до твоего рождения, дорогуша. «Перевяжи их три раза по три, — говаривала она, — и они никогда не разнесут твою духовку». Над чем это вы смеетесь, мисс?
Нервный смешок вырвался у меня, когда в мозгу промелькнула внезапная мысль о том, что именно таким образом совсем недавно меня связывали мои единокровные сестры.
Одна мысль об этом напомнила, мне что я еще не отомстила. Разумеется, была эта маленькая шуточка насчет пиявок, но это просто разогрев, не более чем прелюдия к возмездию. Дело в том, что я просто была слишком занята.
Пока миссис Мюллет засовывала обреченную птицу в утробу открытой «AGA», я воспользовалась удобным случаем, чтобы утянуть баночку клубничного варенья из буфета.
— Три раза по три, — сказала я с ужасной гримасой и жутким подмигиванием миссис Мюллет, как будто называю пароль тайного общества, куда входим только она и я. В то же время я изобразила жест победы Уинстона Черчилля, сложив пальцы правой руки буквой «V», чтобы отвлечь ее внимание от баночки в левой.
Вернувшись наверх, я открыла дверь спальни как можно тише. Нет нужды тревожить Порслин, я оставлю ей записку, что вернусь позже, вот и все. Не стоит объяснять, куда я ухожу.
Но в записке не было необходимости. Кровать была идеально застелена, и Порслин ушла.
Проклятье! — подумала я. Разве она не понимает, что должна сидеть в моей комнате, подальше от чужих глаз? Я считала, что дала ей это ясно понять, но, видимо, нет.
Где же она сейчас? Блуждает по коридорам Букшоу, где ее наверняка застигнут? Или вернулась в фургон в Изгородях?
Я намеревалась сопровождать ее в полицейский участок в Бишоп-Лейси, чтобы она сообщила о своем приезде констеблю Линнету. Будучи на месте, я бы не только выполнила свой долг, но и оказалась бы в идеальной позиции, чтобы услышать все, что произойдет между Порслин и полицейскими. Полицейский констебль Линнет в свою очередь проинформирует вышестоящих в Хинли, которые передадут известие инспектору Хьюитту. А я получу от него благодарность.
Это могло быть так просто. Чертова девица!
Я снова прошла через кухню, подмигнув миссис Мюллет и пробормотав: «Три раза по три».
«Глэдис» ожидала меня у стены огорода, а Доггер был в оранжерее, сосредоточившись на работе.
Но, крутя педали, я почувствовала его глаза на своей спине.
Мальден-Фенвик располагался к востоку от Бишоп-Лейси, чуть дальше Чипфорда.
Хотя раньше я никогда здесь не была, место выглядело знакомым, и неудивительно. «Самую красивую деревню в Англии», как его иногда называли, нафотографировали до умопомрачения. Елизаветинские и георгианские домики, деревянные, с крытыми соломой крышами, со штокрозами и ромбовидными оконными рамами, утиным прудом и крошечными амбарами, не только появлялись в сотнях книг и журналов, но и служили декорациями для нескольких известных фильмов вроде «Меда на продажу» и «Мисс Дженкс идет на войну».
«Шпалерные террасы», как это называла Даффи.
Здесь мать Бруки Хейрвуда жила и работала в своей студии, хотя я понятия не имела, какой из коттеджей принадлежит ей.
Зеленый экскурсионный автобус был припаркован перед пабом, пассажиры выходили на главную улицу с фотоаппаратами наготове, размахивая руками во всех направлениях, словно банда стрелков.
Несколько пожилых жителей деревни, застигнутых в своих садиках, начали украдкой взбивать волосы и поправлять галстуки, когда защелкали затворы объективов.
Я прислонила «Глэдис» к древнему вязу и обошла автобус.
— Доброе утро, — обратилась я к леди в шляпе от солнца, как будто я помогала организовывать чай. — Добро пожаловать в Мальден-Фенвик. Откуда вы?
— О, Мел, — сказала она, поворачиваясь к мужчине рядом с ней. — Послушай, какой у нее акцент! Разве она не восхитительна? Мы из Йонкерса в штате Нью-Йорк, детка. Готова поспорить, ты не знаешь, где это.
На самом деле я знала: Йонкерс был родиной Лео Бакеланда, бельгийского химика, неожиданно открывшего полиоксибензилметиленгликолангидрид, более известный как бакелит, работая над производством синтетической замены шеллаку, который до появления бакелита получали из выделений лаковых червецов.
— О да, — ответила я. — Кажется, я слышала о Йонкерсе.
Я пошла следом за Мелом, вооружившимся камерой и направлявшимся к побеленному коттеджу, держась позади, с расслабленными мышцами и потупленными глазами, — надутая дочь, сытая по горло трансатлантическим перелетом.
Переступая с ноги на ногу, я ждала, пока он отщелкает пару кадров с седой женщиной в твидовом костюме, восседавшей на шаткой лестнице и подстригавшей розовый куст.
Когда Мел отошел в поисках новых впечатлений, я постояла секунду у ворот, делая вид, что восхищаюсь садом, и затем, будто пробудившись от неглубокого транса, изобразила мой лучший американский акцент:
— Скажите, — окликнула я, указывая в сторону деревенской лужайки, — не здесь ли живет… как там ее зовут? Художница?
— Ванетта Хейрвуд. Коттедж «Глиб», — жизнерадостно ответила женщина, взмахнув секатором. — Последний справа.
Это было так легко, что мне почти стало стыдно.
Так вот как ее имя — Ванетта. Ванетта Хейрвуд. Определенно, это подходит тому, кто рисует аристократов с гончими и лошадьми.
Вторжение к только что понесшей утрату матери, вероятно, не лучшее проявление воспитания, но есть вещи, которые мне надо знать до того, как их узнает полиция. Я должна это Фенелле Фаа и, в меньшей степени, моей семье. Почему, например, я обнаружила сына Ванетты Хейрвуд в гостиной Букшоу посреди ночи прямо перед тем, как его убили?
Я не ожидала, что его мать знает ответ на этот вопрос, но ведь она может, вероятно, дать мне каплю информации, которая позволит мне выяснить это самой?
Как сказала женщина с секатором, коттедж «Глиб» был последним справа. Он в два раза превосходил по размеру остальные — как будто два коттеджа составили вместе, как половинки домино, чтобы сделать один большой. В каждой половинке был свой парадный вход, окно в свинцовом переплете и собственная каминная труба; каждая половина дома представляла собой зеркальное отражение другой.
Калитка, однако, была только одна, и на ней висела маленькая медная табличка с выгравированной надписью: «Ванетта Хейрвуд, портретист».
Мои мысли улетели к весеннему вечеру, когда Даффи во время одного из обязательных литературных вечеров отца читала нам вслух выдержки из книги Босуэлла «Жизнь Сэмюэла Джонсона, доктора права», и я припомнила, что Джонсон объявил портретную живопись неподходящим занятием для женщины. «Публично практиковать любой вид искусства и пристально смотреть в лица мужчин — очень неделикатно со стороны женщины», — сказал он.