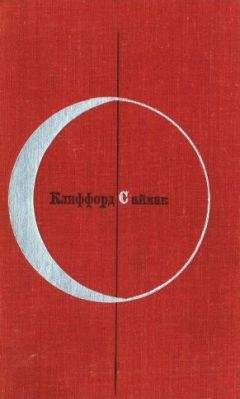Одному из полицейских на вид было лет пятнадцать, а другому — лет пятьдесят, но мне сразу стало ясно, что курс этикета, который читают в полицейской академии, не претерпел изменений за последние десятилетия. Бесспорно, эти двое были отличниками по этикету — при обращении и ко мне, и к Лии они неизменно вставляли «мэм» и не позволяли проскользнуть на своих лицах ни одной эмоции.
Кевин Деннеги по этикету наверняка был троечником. Несмотря на то что «мэм» в его лексиконе появляется регулярно — не при обращении ко мне, разумеется, — все его чувства буквально написаны у него на лице. В эту ночь он также не пытался скрыть их. Не замечая нашего присутствия, он приглушенно промычал своим коллегам:
— Что это за чертовщина?
Подойдя ближе, Кевин наконец-то заметил нас и наших собак:
— Простите. Я вас не заметил. Что тут происходит?
Мы стояли на тротуаре, и я рукой указала на забор.
— Боже правый, — сказал Кевин.
Затем он прочитал вслух: «Всех — в газовые камеры! Жидовские заступники».
Его солидный, добропорядочный голос превратился в огромную руку с натянутой на нее перчаткой, которая подбирала распыленные на заборе слова и помещала их в стерильный мешочек для вещественных доказательств.
Мальчик-полицейский светил фонариком на свастику. Изображение на заборе было красным, не совсем такого оттенка, как мой дом, но достаточно похожего для того, чтобы вывести меня из себя. Мне всегда нравился цвет моего жилища, в точности тот же, который выбрала мама для нашего сарая в Аулз-Хед, и мысль о том, что какой-то расист своими каракулями поганит эти дорогие мне ассоциации, была просто отвратительна. Ругательства на заборе, как стойкий клей, скрепляют невинность с пороком. Во время Второй мировой войны американцы стали называть немецких овчарок эльзасцами, но некоторые дурни все равно привязывали им к хвосту жестянки и вообще всячески их преследовали.
— Кевин, — сказала я, указывая рукой на свастику, — я не хочу, чтобы эта мерзость оставалась на моем заборе. Когда я смогу замазать ее? Сейчас можно?
— У нас есть краска, — вставила Лия, — я схожу за ней.
— Нет, — сказал Кевин. — Сейчас нельзя. Я скажу вам, когда будет можно.
— Кевин, я не собираюсь оставлять эту чертову свастику на своем заборе. Можно, я хотя бы занавешу ее чем-нибудь? Тряпку на нее накину, что ли? Или прибью эту тряпку гвоздями?
— Конечно, — вздохнул Кевин.
Пока он совещался с ребятами в униформе, мы с Лией отвели собак в дом. Я достала из шкафа белую простыню, а после недолгих, но вдохновенных поисков в кладовке мне удалось обнаружить еще кое-какой хлам, необходимый для нашего предприятия, а именно: клеенку, молоток, пригоршню гвоздей, две малярные кисти и почти что полную банку с синей краской, оставшуюся после покраски стула, которую я проводила давным-давно.
— Лия, Вилли Джонсон был сегодня на вечеринке? — спросила я.
Лия отрицательно покачала головой.
— Я не упоминала его имени при полицейских, но Кевину мне о нем рассказать все же придется. Он ничего не знает о радио. То есть о магнитофоне. Но ему следует об этом знать.
— Нет, это несправедливо, — запротестовала Лия. — Ты же сама толком ничего не знаешь!
— Лия, я не собираюсь прикрывать того, кто совершил это, да и кому вообще придет в голову прикрывать их? Это продуманное действие, предназначенное специально для нас. В любом случае я не спрашиваю твоего совета. Я просто ставлю тебя в известность, что расскажу Кевину всю историю целиком. Да, и еще у меня тут возникла одна идея. Ты когда-нибудь слышала о том, что произошло в Дании, когда ее захватили немцы?
Лия этого не знала. Я видела, насколько она разозлена, но тем не менее продолжила рассказ:
— Так вот, нацисты приказали всем евреям носить нарукавные повязки со звездой Давида и… Возможно, я не совсем точно излагаю это, но суть такова. Они огласили этот приказ, и тогда датский король совершил потрясающий поступок. Он сам надел повязку с еврейской шестиконечной звездой. С этой повязкой он отправлялся на прогулки в парк, ездил верхом и вообще появлялся в таких местах, где его подданные могли бы его увидеть.
— То есть он послал всех подальше, — восхищенно выпалила Лия.
— Ну, в общем, да, — не совсем уверенно проговорила я. — Этим, я думаю, он хотел сказать: «Поступая так с кем-то, вы поступаете так со мной». Или, может быть: «Преследуя одних, вы преследуете всех». В любом случае, раз свастику нам с тобой замазывать не дают, мы можем последовать примеру датского короля.
Мы заперли собак в моей спальне, разложили на полу клеенку и нарисовали на ней наше знамя неповиновения — синюю звезду Давида на белом фоне. На это нам потребовалось несколько минут. Когда мы вынесли знамя на улицу, то Кевин и его коллеги решили, что мы окончательно лишились рассудка. Они не позволили нам повесить клеенку на граффити — синяя краска еще не высохла, — но все же я встала на стремянку и прибила ее гвоздями к забору, к моему забору, так что знамя теперь висело рядом со свастикой. Лия, возможно, тоже решила, что я слегка обезумела, но я себя чувствовала превосходно. Тут живет еврейка — гласило знамя. Тут живет член датской королевской семьи.
— А завтра, — сообщила я Кевину, — мы пополним нашу коллекцию экуменических знаков. Крест повесим. Настоящий, не изломанный. Изображения Вишну и Шивы. Надо подумать, что еще. У адвентистов седьмого дня имеется свой символ?
Лия отправилась спать, полицейские уехали, а мы с Кевином присели поболтать на крылечке. Он потягивал «Бадвайзер», а я — молоко.
— Кевин, а что ты делал, когда мы позвонили? Спал?
— Не-а. Телек смотрел.
Кевин страдает бессонницей, но стоит Рите об этом заикнуться, как он тотчас впадает в ярость. Прошлой зимой, когда он особо остро страдал от бессонницы, Рита затащила его к себе и прочитала настоящую лекцию о борьбе со стрессами. По ее словам, она уговаривала его заняться дзэн-буддистской медитацией. А судя по рассказам самого Кевина, она пыталась заарканить его в одну из восточных сект.
— Так, значит, ты был дома? Был дома, когда это случилось? — уточнила я.
— Я же сказал тебе уже. Не надо меня сто раз переспрашивать.
— Но тебе ведь незачем… Ты ведь не навечно прикреплен к этому участку.
Тут-то и кроется источник его бессонницы. Он вырос в этом районе и считает, что на его плечи возложена ответственность за все близлежащие кварталы.
— Все равно я должна тебе рассказать кое-что. А потом еще кое-что. Но завтра у меня соревнования, и мне хотелось бы быть в форме, так что я все быстренько тебе выложу, ты меня выслушаешь и не будешь перебивать, ладно? Прежде всего, ты помнишь о том граффити, которое намалевали в парке Ньютона? Так вот, в группе у Лии, в той, где она дрессирует собак, есть один парень…
Я принялась рассказывать ему о Вилли, Дейле, Эдне и магнитофоне, но не успела я закончить, как он прервал меня, сказав, что полиция Ньютона уже провела некоторую параллель между граффити в парке и присутствием Вилли на занятиях. И разве он не просил меня не ходить туда больше?
— Но это не обязательно дело рук Вилли, — сказала я. — Вовсе не обязательно. Все их семейство, как бы это сказать… Рита назвала его, кажется, дисфункциональным… И откуда тебе вообще известно о них? Тебя с ними что-то связывает?
— Во-первых, — сказал Кевин, — мама Сапорски живет в Ньютоне.
Как я уже говорила, Джон Сапорски — это лучший друг Кевина, и работают они вместе. Раньше они вместе играли в гандбол в Ассоциации молодых христиан, а теперь время от времени вместе совершают пробежки.
— И когда эта дрянь размазана по всей стене — продолжал он, — она ждет, что ее сын примет какие-нибудь меры. И во-вторых, «М. Д. Джонсон и сыновья» — это Кембридж.
— Что?
— Ну, это в Кембридже.
— А что это такое?
— На их грузовиках написано: «Одноразовые емкости для напитков».
— Что это значит?
— Пластиковые стаканы, — ответил Кевин, — они их дистрибьютеры. Распространяют одноразовую посуду.
— Так вот откуда тебе известно о них? Из Кембриджа? Ничего себе! А больше они ничего не распространяют?
Кевин покачал головой:
— Не-а. Неприятности. С ребятами были проблемы. Их в семье трое, так ведь? Папаша и трое сыновей, которые работают на него. А когда старшему из них стукнуло шестнадцать и он смог законно водить машину — он стал болтаться здесь после работы и по выходным дням. В основном они тусуются в Ист-Кембридже, там у них склад и контора, но и соседи тоже, должен сказать, имеются. От них-то и поступают жалобы. Получается вот что: когда контора закрыта, мальчишки болтаются по округе, пьют и гадят.
— И вдобавок они несовершеннолетние.
— Но соседи не хотят неприятностей, и, вместо того чтобы позвонить нам, они звонят их папаше, а мы потом выезжаем на домашние разборки.