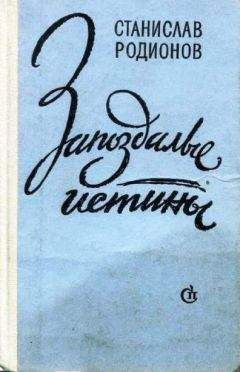— Приехала я из Псковской области, поступила учиться в техникум, поселилась здесь, в общежитии… Как-то пошла с девочками на пляж. Не такая была, а веселая, загорелая, в австралийском купальнике. Там и встретила Мишу, Михаила Михайловича Мочина. Познакомились. Ну, как он ухаживал, рассказывать не буду. Чистое заграничное кино… А потом он предложил все бросить и переехать к нему. Сказал, на виллу. Я, конечно, беспокоилась о техникуме. Страшно бросать. Миша смеялся: «Кто не рискует, тот не пьет шампанского». Ну и поддалась…
Валентина умолкла. Ее лицо стало розоветь — от чая ли, от воспоминаний ли, от стыда ли… Леденцову хотелось, чтобы Валентину расспрашивали сами ребята. Но они сидели хмуро и скованно. Ирка от удивления распустила губы, и ее темные глаза потеряли обычный маслянистый блеск, точно она забыла их промыть. Грэг недоуменно и сильно дергал себя за волосы, намереваясь их выщипать. Бледный, казалось, думает о чем-то тяжело и никак не может додуматься. Лишь Шиндорга делал вид, что его все это не касается, поэтому пил чай со вкусом, как духманистый нектар.
— А чем у него занималась? — спросил Леденцов, так и не дождавшись активности ребят.
— Обеды готовила, убирала, гостей принимала…
— Как он тебя звал?
— Крошкой.
— Сколько тебе лет? — вспыхнула Ирка, услыхав про эту «Крошку».
— Восемнадцать.
— Значит, к Мочину пришла еще несовершеннолетней, — подсказал Леденцов.
Он вдруг обратил внимание, что его подопечные сидят виновато, словно их в чем-то упрекают. Почему? Ведь разговор о Мочине. Может быть… У Леденцова опять, как уже бывало, все забилось от подавляющей радости. Говорят, стыд глаза не ест. Еще как ест: им стыдно за Мочина, за друга. И в голове Леденцова понеслась логическая цепь: коли стыдно, то Мочина раскусили; если раскусили, то осудят; а если осудят, то уйдут…
— А любовь? — опять спросила Ирка, вызвав у Шиндорги веселое подрагивание губ.
— Тогда он мне нравился.
— А ты ему?
— Не знаю.
— И не спросила?
— Не раз. А он тоже спросит: «Молилась ли ты на ночь, Дездемона?»
— Мадам, — прервал диалог Артист, посчитав вопрос ясным, — чем все кончилось?
Валентина чуть наклонила голову в сторону ширмы:
— Забеременела, и Мочин меня выгнал.
— Как это — выгнал? — усомнился Бледный.
— Культурно, с выходным пособием.
Шиндорга кашлянул и заметил солидным тоном:
— У нас женщина равноправна. Не надо было к нему клеиться…
Ирка с тигриной мягкостью привстала и вцепилась правой рукой в его волосы. Шиндорга двумя руками пробовал оторвать ее пальцы, но, видимо, отрывал вместе со своей челкой. Леденцов вмешался:
— Ир, ребенок за ширмой…
— Вот только что ребенок, а то бы он облысел.
— Что-то Губа стала много пылить, — угрожающе сказал Шиндорга, поглаживая голову.
— Замкнись, — велел Бледный.
Казалось, что на слова Шиндорги можно и не ответить, но Валентина заговорила:
— Сама виновата, правда… Не я одна. До меня была девушка… Нарочно родила, чтобы Мочин на ней женился. Потом ребенка сдала в детдом и уехала в другой город. Верно, клеилась…
Неожиданно Валентина повела плечами, тряхнула головой и села осанисто. Ершистые волосы, повинуясь какой-то удали, сложились в короткую и модную прическу. Глаза утратили сонь, блеснув жизнью. И стало видно, что Валентина молода и привлекательна.
— Лето, жара. У Мочина на участке бассейн с пляжиком. Гости плавают. А я в бикини сижу на коврике и перебираю струны ситары. Индийский инструмент, вроде нашей балалайки, только с длинной ручкой. Изредка гости выныривают, я наливаю охлажденного шампанского, они пьют, похлопывают меня и вновь ныряют! Красиво!
— Клево, — согласился Шиндорга, косясь на Иркины руки.
— Ага, клево. А теперь ребенок на руках, деньги кончились, специальности нет, эту комнатушку просят освободить, к родителям ехать стыдно… Клево я попила шампанского, а?
Последние слова она выкрикнула истерично. И, зарыдав, упала головой на стол, на брошенные руки, на опрокинутую этими руками чашку. Ирка сорвалась с места и на правах женщины обняла ее и стала успокаивать странным тихим шепотом. Все почему-то встали. Чаепитие окончилось.
— К Мочину я больше ни ногой, — сообщил Грэг и прибавил для Валентины: — Проживем и без отца, без такого подлеца.
— Конечно, проживем! — подхватила Ирка и затрясла Валентину, словно хотела вытрясти из нее все слезы. — Мы поможем! Грэг, поможем?
— Разве может быть отцом, кто зовется подлецом? — согласился Артист.
— Поможем, — вдруг сурово бросил Бледный.
Леденцов понял, что они загадывают невероятную психологическую загадку, которую ему век не отгадать. А возможно, и никому.
Били школьников и отбирали у них деньги, не жалея. Дрались и воровали, никого не жалея. Заставили его, Леденцова, ограбить женщину, не пожалев. Раскурочивали автомашины, не жалея владельцев. Вчера, в сущности, пытали его физически и морально, не жалея… А вот сейчас готовы помочь женщине, которую видят впервые в жизни. Почему?
— Валентина, мы с ребятами обсудим, — заключил Леденцов.
— Нужен Мишеньке отец, но не Мочин, не подлец, — опять поддержал Артист.
Вышли молча. Леденцову казалось, что теперь они идут кучнее, не растягиваясь и не отставая. Он понимал, что их порыв мог быть минутным: брошенная девушка, ребенок, слезы… И он не знал, как его закрепить и протянуть во времени, чтобы ребята стали опекать Валентину. Поэтому тоже не заговаривал, боясь спугнуть задумчивое молчание невпопадным словом.
На перекрестке Ирка оттерла всех крепкими покатыми плечами, оставшись с Леденцовым. Они медленно побрели к ее дому на тот конец микрорайона. Шли, как всегда, не за ручку, не под ручку, а лишь соприкасаясь плечами.
— А бывает, наоборот, любовь всамделишная, — начала Ирка.
Этих случаев — и все про любовь — она рассказывала штук пять на дню. Откуда брала?
— На Конной улице жила пара. Людка Шубченко с мужем. Только стала Людка замечать, что муженек глядит на сторону. Погуливает с проводницей Ленинград — Сочи. Людка — в слезы. А ее подружка принесла ей травки отворотной. Мол, подсыпай супругу в супешник, он проводницу и позабудет. День Людка сыплет, два, три… А через неделю мужа как подменили. Никуда не уходит, у телевизора торчит. О проводнице забыл и думать. Людка к подружке — спасибо сказать. А подружка скалится. Я, говорит, тебе укропу давала.
— Анекдот, — буркнул Леденцов.
Встал он сегодня в семь утра. И весь день на ногах, ходил от дома к дому, из квартиры в квартиру, будто перепись населения вел. Больше сотни людей опросил. Позвони, извинись, представься, покажи удостоверение, задай свой единственный вопрос и, как правило, ответь на множество не своих… А вопрос был прост до смешного: «Вам не встречался мужчина в синем плаще?» Но в синем плаще ходил не мужчина, а Пашка-гундосый, который выдавал себя за внука известного налетчика Леньки Пантелеева; пусть бы выдавал, невелика слава, коли бы сам не был подлецом и растлителем малолетних. Заманивал девочек в подвалы: якобы там прыгает белочка. Потерпевшие видели у него обрез, кургузый, походивший на уродца.
А потом был нервозный разговор с начальником уголовного розыска, потом спешил в Шатер, потом езда с заходом в гастроном, потом накаленное чаепитие, а теперь вот плетись… Леденцов увидел скамейку. Лечь бы, отвернуться от Ирки и от города и заснуть бы мгновенно и до утра.
— Знаю про одну клевую любовь…
— Ира, — перебил он, — а что, если друг с другом говорить по-русски, а?
— Чего?
— Клевая любовь… Вроде клееной или клеенчатой.
— А как?
— Красивая, хорошая, сверхъестественная…
— Нарядная, — решила Ирка. — Жарче кавказского побережья. Это у Люськи с Заветного переулка. Вчмурился…
— Влюбился.
— Влюбился в нее парень до слюней. А сама-то Люська с закидонами, то есть с комплексами. Идут они как-то зимой в парке, где «моржи» ныряют. Люська возьми и подначь: мол, слабо. Парень плюхнулся в прорубь, как был: в пальто, в пыжиковой шапке, с фотоаппаратом на плече. «Моржи» его и вытащили. А перед Восьмым мартом Люська с ним поругалась, в квартиру не пускает. Он сначала спустил с крыши на балкон букет мимоз, а потом и сам спустился по веревке — пять этажей мухой полз. А эта холера Люська прочла в журнале, что миллионерши ванны молочные принимают. Ему и брякнула. Трепом, конечно. Вдруг открывается дверь и два грузчика из магазина вволакивают две фляги молока. Хай лайф, а?
— Ну и приняла Люська молочную ванну? — мирно спросил Леденцов, потому что устал.
— Нет, молоко скисло.
Он считал, что после виденного у Валентины Ирка будет говорить о Мочине. Но трещала о любви. Эти упорные разговоры, почти ежедневные провожания, ее лукавые взгляды и неуклюжая забота начали Леденцова тревожить; он еще не знал чем и почему, но ему мерещилась какая-то туманная опасность. Впрочем, не верил он в силу страсти у шатровых: развеется Иркина любовь, если только это любовь. Все проще: никто ее раньше не целовал. И Леденцов чуть было не усмехнулся… Чего только он не делал ради службы! Притворялся избитым, пил, переодевался женщиной, прикидывался дурачком, бывал таксистом и официантом, входил в доверие и разыгрывал друга… Но целовался по служебной необходимости впервые. Впрочем, ему не приказывали.