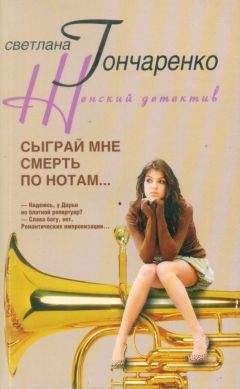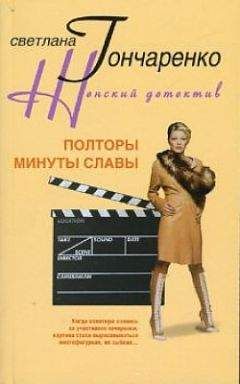— Я таких даже видел, — вежливо подтвердил Самоваров.
— Я бы и чаю мог вам предложить, — улыбнулся Андрей Андреевич. — Но боюсь, вам он не понравится. Вы, я слышал, знаток чая и мастер чайных церемоний?
Самоваров только пожал плечами. Ему очень хотелось разговориться с Андреем Андреевичем, но тот весело метался от темы к теме, и беседа не клеилась. А Самоваров собрался на Шелегина и на «Простые песни» невзначай как-нибудь выехать и посмотреть, что тогда станет с открытой улыбкой симпатичного музыканта.
Было заметно, что Андрей Андреевич тоже хотел разговора, и Самоваров знал даже, о чём — о Даше и о позавчерашней встрече в «Багатели».
Андрей Андреевич не заставил себя долго ждать.
— Я вас не сразу узнал в «Багатели», — решительно приблизился он к горячей теме. — Лицо у вас изменчивое, да и темновато было в зале. А мне ещё чужие проблемы решать пришлось. Слава Богу, разобрались!.. С детьми всегда трудности. У вас дети есть?
— Нет ещё, — сухо ответил Самоваров.
— Как и у меня. Мы, оказывается, с вами во многом сходствуем — так, кажется, говорили в старину? И мы умно поступаем, что с потомством не торопимся. Молодые родители — это каменный век. Ведь дети страшно обременяют, а хочется свободы, простора, удовольствий, карьеры. Потом детки вдруг вырастают в незнакомых взрослых людей, которым вы почему-то не слишком нравитесь. Общаться противно: сплошные взаимные обиды. Приходится дожидаться внуков — с этими больше лада бывает. Я всё это по своему педагогическому опыту знаю: и родителей, и детей много прошло через мои руки!
Самоваров слушал молча.
— А мы с вами лучше так сделаем: вместо внуков детей родим, — улыбнулся Андрей Андреевич. — Тогда родим, когда молодость уже определённо позади, прыть разного рода поутихла. Зато переделаны большие дела, есть успех, благополучие, стабильность — и немного усталости. Вот золотая пора для отцовства! Мой опыт подсказывает множество позитивных примеров такого рода. Ну, как, договорились?
Андрей Андреевич выразительно подмигнул, будто подбивал Самоварова родить детишек на пару, каким-то неведомым природе хитрым способом. Са
— Всегда с детьми трудности, — продолжил Смирнов. — Этой семье, Шелегиным, многие стараются помочь. Вы, может быть, не в курсе, но отец у них очень болен.
— Я слышал. Мне жена что-то говорила, — сказал Самоваров. — Он чуть ли не парализован и не может двигаться?
— Абсолютно! — вздохнул Андрей Андреевич, и лицо его стало скорбным. — Его жена бьётся из последних сил. Она работает у нас в филармонии и помогает моему хору с выступлениями. Я, как могу, стараюсь её поддержать. Да вы это и сами в «Багатели» видели! Иногда даже в дурацкую ситуацию попадёшь, а что делать? Измученная мать обращается ко мне как к знатоку детской психологии. Девочка совершенно её извела. Ребёнок очень сложный, обстановка в доме тяжёлая… Я пытаюсь объяснить Ирине Александровне, что влияют на её дочь и семейные неурядицы, и бурное половое созревание, и явно обозначившееся влечение к мужчинам. Трудно со всем этим справиться матери — женщине практически одинокой. Тем более что Ирина Александровна переутомляется на работе и дома, с больным мужем. Она на грани срыва…
Самоваров сочувственно покачал головой:
— Муж её к тому же не в себе, кажется?
— Это уже не человек, а лишь оболочка человека — слабая, пропитанная лекарствами, не способная существовать без ежеминутной чужой заботы. Я часто вижу его. Он сидит такой тихий, иссохший. Не верится даже, что эти руки, ноги, тело — живая плоть, а не какие-то неподвижные тряпки, брошенные в кресло. А лицо у него белое и немного перекошенное, со странным таким выражением: и не мысль в нём, как у обычного человека, и не настороженность, как у животного, а что-то непонятное и, кажется, опасное. Иногда просто мороз по коже дерёт, и понятно делается, почему в старину юродивых и полоумных считали святыми.
Андрей Андреевич уже выпил одну из своих десяти чашек кофе. Он задумчиво уставился на холмистые под снегом крыши, которые виднелись за окном. Батареи грели жарко, пахло старым домом, книгами, а со стен разнообразно и значительно посматривали советские писатели, склонив головы набок и дымя сигаретами и трубками.
— Я о смерти думаю всё время, — неожиданно сказал Андрей Андреевич. — Не о старости даже, а именно о смерти. Нелепо, правда? Это из-за Шелегина. Я ведь знал его до несчастья. Он непростой был очень, тихий, самолюбивый. Ничего у него не получалось — даже в Союз не приняли. Это с консерваторским-то образованием! Но всё-таки живой был человек, по улицам ходил, думал о чём-то, дочку всюду за собой таскал. И вдруг такое… Что он теперь? Зачем? Насколько он здесь, с нами? Или нет уже его?
— Не нам решать, — неохотно отозвался Самоваров. — Даже о себе всего не знаешь, а уж чужая душа — потёмки.
— Вот именно! Но я иногда представлю себя такой вот вещью в кресле, и мне страшно делается. Или просто по улице иду, вспомню его, и хочется бежать куда-то, спрятаться. Как он терпит? Зачем терпеть? Бесконечная боль, неопрятность, мучение — и невольное отвращение окружающих. Какие-то чужие люди приходят, щупают, смотрят, уколы делают. Так всё время, и ничего другого уже не будет. Что может быть ужаснее? Разве не счастье, когда придёт кто-то из этих чужих, введёт что-то в вену — обычный укол! — и всё кончится. Я бы, например, только благодарен был.
— Что вы можете об этом знать? — не выдержал Самоваров. — Вы были когда-нибудь тяжелобольным? Жертвой? Или заложником? И подходил разве к вам кто-нибудь чужой, чтобы вас убить? А вы в этот момент ничего сделать не можете, только глядите, как этот чужой вас убивает. Чужой — здоровый, сильный, которому вы никто, которому плевать на вас. Он отнимает у вас жизнь. С какой это стати отнимает?
Андрей Андреевич даже вскочил со стула:
— Как с какой? Если я в своё время в здравом уме и этой… как её… твёрдой памяти — или наоборот, в твёрдом уме? В общем, если я выразил свою волю и считаю, что невозможно, позорно жить вонючим овощем в кресле…
— Мало ли какие глупости приходят в голову в здравом уме, особенно после сытного обеда, — холодно заметил Самоваров.
— Нет, нельзя быть таким эгоистом! А муки близких? А их бессмысленные заботы? Их неприятные, в конце концов, ощущения? Они ведь сами обязательно захотят, чтоб я поскорее убрался, чтоб сам не мучился и их освободил. Ведь если я стал бесполезен… Я был опорой, защитой, я их обеспечивал, радовал, а теперь только неприятен! Разве они не захотят, чтоб я умер?
— Может, и захотят. Пусть.
— Но я сам, сам так хочу! Я им сам скажу: если я стану овощем, прекратите это! Обязательно прекратите!
— Так это вы им скажете, будучи здоровым и ничего не понимая, — усмехнулся Самоваров. — Говорят же некоторые дуры: после тридцати (или сорока?) жизнь кончается — целлюлит, лишний вес, мужики меньше липнут. Что, ловить их на слове и отстреливать, когда стукнет тридцать и пара лишних килограммов набежит?
Смирнов засмеялся:
— Ну, это совсем другое!
— То же самое! Что вы обо всём этом можете знать? — повторил Самоваров уже раздражённо. — Я сам когда-то, как Шелегин, тряпкой валялся на койке в больнице. Только иногда всплывал из боли и дури, которая заглушала чуть боль (уколы мне такие ставили). Шёл третий год, как я лечился. Операция неудачно прошла — чуть концы не отдал. Тогда и я, как вы говорите, думал: укольчик бы теперь, и кончить всё это. К чему зря мучиться? Кому нужна такая моя жизнь? Родители давно в автомобильной катастрофе погибли. Невеста когда-то была, только к тому времени исчезла. А я всё лежал на койке — всплывал и тонул, всплывал и тонул…
Андрей Андреевич хотел снова сварить кофейку, но так и замер с электрочайником в руках.
— И вот я очередной раз всплыл, — продолжил Самоваров, — и по всему, что от меня осталось, сразу ниточками, пунктирчиком потекла боль. А там, где было резано и разворочено, ниточка в клубок скатывалась и начинала язвить. Меня тут же, как обычно, прошибло потом — холодным, быстрым, несолёным, как вода. Опять! Сотый раз уже я вот так просыпался! Я стиснул зубы, отвернулся, уставился на свою тумбочку. Рядом с кроватью стояла эта тумбочка, бледно-зелёная. В больницах всё такими дохлыми цветами красят, что хоть сразу ложись и мри.
— Эти цвета считаются успокаивающими, — вставил Андрей Андреевич.
— Успокаивающими навечно? Я уткнулся в эту покойницкую тумбочку. Она была гладкая, скользкая, масляной краской крашеная. На её стенке просматривалось мутное отражение. Отражение состояло из трёх прямоугольников. Как раз солнце заходило, и эти прямоугольники были, оказывается, небом, крышей и ярко освещённым откосом окна. Когда они сложились у меня в картинку, я по ней понял: там, в мире, сейчас вечер. Там закат, всё оранжевое, и стёкла бликуют огнём — так всегда бывает, когда закат ясный. Как только я всё это увидел, тот серо-бурый прямоугольник, что в моей картинке был небом, откинулся вдруг в глубину, и откос засиял, и даже оттуда будто теплом повеяло. Это, конечно, сработало воображение: я просто вспомнил, какие бывают закаты. Какой бывает тогда свет, вспомнил, как ложатся тени, как они удлиняются, как шелестят деревья, как всё постепенно гаснет, и наступает ночь. Все закаты за двадцать три тогдашних моих года отразились в паршивой тумбочке. И я решил: «Пусть даже всё совсем будет плохо и больно, и я не выздоровлю, но если я хоть тень, хоть отражение солнца смогу видеть на стенке тумбочки, то смогу и жить, и даже быть от этого счастливым. Ведь когда я здоровым бегал, я не обращал особого внимания на такие вещи, как свет и тени. Теперь я буду их видеть лучше, чем те, кто бегает, веселится и пиво пьёт». Не знаю, поняли ли вы…