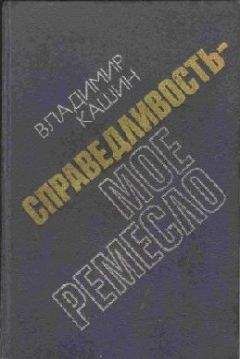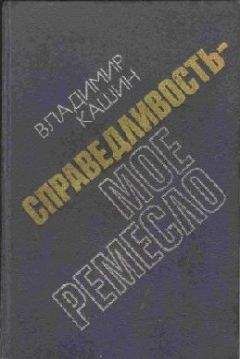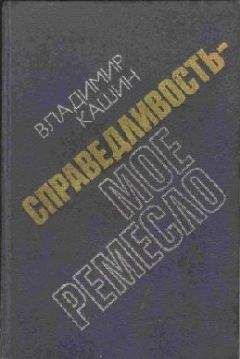Он сидел в комнате и проклинал себя. Потом поднялся и поплелся на кухню.
- Людочка... - начал он вяло, нерешительно.
- Опять какие-нибудь мировые проблемы? Не надо, Вася, мне не хочется мировых проблем. Мне хочется кофе. Сейчас я налью и тебе, в твою персональную чашечку, и что-то такое скажу...
Пили кофе на кухне - там было уютнее, чем в комнатах.
- Васенька, миленький, я тебя огорошу сразу, - лицо Люды так и засветилось, - прикажи казнить или миловать. Ходила я вчера к врачу. Радость какая! Словом, будет у нас ребенок! Потомство, понимаешь куриная ты лапа!
- Кто? - переспросил он пересохшими губами.
- Как это "кто"? Мальчик или девочка, не слон же! Целуй меня скорее! Да ты, я вижу, от счастья совсем очумел и ничего не соображаешь! Мама уже знает. - Она сама наклонилась и крепко поцеловала его в сухие губы. - А ты кого хочешь - мальчика или девочку?
Голос у Люды - ласковый, мелодичный, она разрумянилась и была похожа на школьницу, которая получила пятерку на самом трудном экзамене.
- Поздравляю, - сказал Василий каким-то не своим, официальным голосом, высвобождаясь из Людиных объятий.
Он встал. И сказал все. Все, что накопилось у него на душе, все, что готовил для откровенного разговора. Говорил, а она испуганно слушала, съежившись, словно на нее замахнулись обухом, но не опустили его. Она только часто-часто моргала и вздрагивала.
Да, он сказал ей все, сказал, что сам он - подлец, негодяй, недостойный ее любви, жалкий трус и еще многое другое, но что он не может жить без Леси и заслуживает того, чтобы они обе прогнали его прочь. Но теперь - поздно. Теперь, если она, Люда, хочет, он женится на ней, но она всю жизнь будет носить в сердце обиду, а он - любовь к другой, и дети у них будут обиженные от рожденья, психи, потому что это будут дети не по любви, а по обязанности. И если она считает, что это будет нормальная семья, то сегодня же - даже немедленно! - он пойдет с нею в загс! Если она этого хочет после его исповеди, то, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!
Он понимал, что несправедливо обижает ее, но остановиться не мог. Он все стоял и кричал, кричал, словно она глухая. Потом выдохся, прижался спиной к холодной стене и сказал:
- Я знаю, что перед тобой я скотина. И даже не имею права просить прощения за то, что обидел тебя. Я ведь очень тебя обидел.
- Ты обидел себя. Ты свободен. Убирайся вон! Иди и не приходи больше никогда, слышишь! Не приходи и не звони, не смей!
- А ребенок? Люда, как же теперь быть? Что же нам делать?
- Теперь? Нам? Теперь мое дело. Только мое! Что же ты стоишь? Уходи! - Она заплакала и убежала в комнату.
Как все нехорошо, как гадко получилось! Он постоял еще немного на кухне в каком-то оцепенении, погладил теплый кофейник и ушел, не попрощавшись.
Все! Казалось бы, долгожданная свобода - вот она! И Леся ни о чем не узнает. Не узнает, что он в этот день наплевал в душу хорошему человеку, что этим своим поступком, быть может, убил ребенка. Он таки убийца! Настоящий, отвратительный. Но он - свободен! Свободен от гордой Люды. Какая унизительная победа! Свободен от своих слов, обещаний... А от совести?
Весь вечер было тяжело, тяжело и горько. К Коле идти уже не было сил. Да и желания. Он бродил по паркам, по днепровским откосам. Никак не мог успокоиться, но, стараясь держать себя в руках, отправился на свидание с Лесей.
В тот вечер он сделал все, чтобы Леся не заметила его возбужденного, взвинченного состояния. Но это не очень удавалось.
И вот сейчас, в камере предварительного заключения, у него было достаточно времени, чтобы обдумать все, и от этих воспоминаний становилось на душе еще хуже. Он ощущал себя совсем-совсем одиноким. Один во всем мире. Нет, будь что будет, а он не воспользуется этим алиби. И так все выяснится - не могут же, в конце-то концов, засудить невинного... А если могут? Что тогда? В крайнем случае, впереди еще суд, и он сможет в последнюю минуту все рассказать, суд, на который конечно же придет и Леся. Нет, лучше об этом не думать!
Как бы только Коля не сказал что-нибудь Лесе, стараясь его спасти. Ведь Коля и Яковенко - ближайшие друзья - знают о Люде. Коля часто ругал Василия за его подлую нерешительность и, наверно, догадался теперь, где мог быть он, Василий, в тот трагический вечер. Неужели не пожалеет его с Лесей и расскажет?
Василий снова подошел к глазку. Небо над столом дежурного стало темно-серым. Скоро ночь. Еще одна страшная ночь. Сколько их, таких, впереди?
- Начальник, пусти... - заныл, заканючил голос в соседней камере.
Василий подошел к потемневшим от времени нарам, доски которых были гладко отполированы чьими-то телами, и, упав лицом на скрещенные руки, тихо заплакал, дрожа от жалости и ненависти к себе.
18
Председатель правления банка Павел Амвросиевич Апостолов тяжело переживал безвременную смерть жены. Долго болел. За детьми ухаживала Евфросинья Ивановна - хорошенькая молодая гувернантка из института благородных девиц. Апостолов иногда советовался по хозяйственным и житейским делам с Евфросиньей Ивановной и каждый раз убеждался, что она, помимо всего прочего, еще и весьма неглупа.
Когда пришло известие из Петрограда о том, что там взяли власть большевики, Евфросинья Ивановна обратилась к Апостолову с вопросом:
- Павел Амвросиевич, а как вы с детьми - что собираетесь делать?
Апостолов некоторое время молча смотрел на гувернантку. Он и сам думал, как быть с детьми, но из ее уст вопрос этот прозвучал для него как бы неожиданно.
- Что-нибудь придумаем, - неопределенно ответил он, не желая раскрывать свои планы.
- Думать некогда, - с несвойственной ей твердостью сказала Евфросинья Ивановна. - Необходимо срочно спрятать в надежном месте ваши ценности. Все! - подчеркнула она. - Особенно камни! И надо спасать детей. Им нужна мать.
Апостолов уже не раз ловил себя на том, что ему нравится эта женщина. К тому же действительно - дети, Клава и маленький Арсений, и положение вдовца... Почувствовал, что именно этой женщины ему недостает. Охватило чувство благодарности за желание помочь ему в трудное время, и он поцеловал руку Евфросиньи Ивановны. Та в ответ прижалась к его груди.
Новая волна чувств толкнула Апостолова в объятия красивой гувернантки и решила его судьбу. Неделю спустя отец Илиодор обвенчал председателя правления банка с Евфросиньей Ивановной.
Но не повезло молодой жене банкира. Ценности, все, кроме личных украшений покойной жены Павла Амвросиевича, прибрать к рукам она не успела. Банк был национализирован и взят под охрану революционной властью. А после ограбления банка, когда исчез и сам Апостолов, все пошло вверх дном.
Девушка, подогнув острые колени едва ли не до самого подбородка, спала на полу. Спала тревожно, неглубоким сном, как спят издерганные, голодные люди. И когда послышался легкий стук в дверь, сразу проснулась. Евфросинья Ивановна тоже услышала этот стук, тоже проснулась и, кутаясь в шаль и поеживаясь, пошла к двери босиком.
- Кто там?
Она открыла дверь, и Клава увидела в комнате две тени. Вошедшие казались богатырями. Евфросинъя Ивановна зажгла огарок свечи, и робкий огонек затрепетал, причудливо освещая стены, высокий потолок, сломанные стулья, покосившуюся кровать.
Клава сразу узнала гостей - толстого лавочника Могилянского и с ним едва не вскрикнула - священника Благовещенской церкви! Какое-то время все трое шептались между собой, потом Клава услышала, как по полу тащат что-то тяжелое. Не удержалась, приоткрыла один глаз и увидела: Могилянский поставил в угол мешок, а мачеха прикрыла его тряпьем.
Она снова закрыла глаз и попыталась заснуть. Евфросинъя Ивановна, кутаясь в шаль, повела гостей в большую гостиную, где было так же холодно и неуютно, как в спальне, спасаясь от зимы, они с мачехой сожгли уже всю мебель.
Спать в эту ночь Клаве больше не пришлось. И не только от холода. Из-за двери доносились голоса гостей и Евфросиньи Ивановны. Вскоре Клава услышала мачехин смех. Это удивило девушку. Ведь в последнее время мачеха только бранилась и ныла. И никогда не улыбалась. А теперь ее смех звучал в ответ на веселый тенорок Могилянского и рокочущий бас отца Илиодора.
Мешал спать и голод, проснувшийся вместе с Клавой.
С огарком в руке в комнату вошла мачеха. Через открытую дверь донесся дурманящий запах, - кажется, пахло колбасой! Мачеха принесла ей кусочек хлеба с ветчиной. Клава все целиком засунула в рот, стала жадно жевать и подавилась.
- Не спеши, не отберу... - мачеха похлопала ее по спине. - Накинь платьице и иди в гостиную. Там много всего. Наешься. И веди себя хорошо. Будь покорна, слушайся господина Могилянского во всем. Если не хочешь умереть с голоду. Мне кормить тебя нечем. - Она дохнула на девушку винным перегаром и ушла в гостиную.
Свою "вторую мать" Клава не любила, хотя и примирилась с ней. Но теперь, когда Евфросинъя Ивановна осталась единственным близким человеком, Клава, не зная, что мачеха терпит ее и Арсения только потому, чтобы не забрали квартиру, стала относиться к ней мягче.