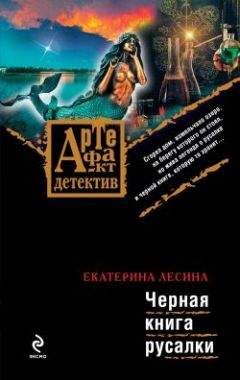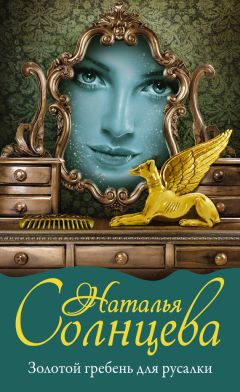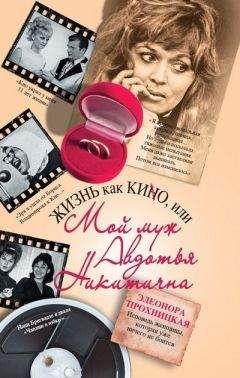Ох хороша, пусть и худлява, и лядаща, и криклива, как стая галочья, но хороша... зыркнет глазом синим, бровью поведет, и цепенеешь, будто изнутри холод сковывает. А эта, знай, усмехается, чует силу свою, крутит...
И жалко Ивану барина, и злость разбирает – ему бы не книги читать да днями-неделями взаперти сидеть, чегой-то мастеря, ему бы вожжи в руки да выпороть дуру, чтоб чуяла руку мужнину.
Но нет, не муж он ей, не по-божески живут, во грехе и разврате, только ж разве это Иваново дело? Ему бы с ветлой решить чего да барыню, коль выпадет, увидать.
– Нет. – Никита решительно подошел к дереву и, нагнувшись, нырнул под густую шапку из веток да листьев. Задрожала ветла, затряслась, точно баба, которой под юбку шмыгнули.
– Здоровая она, пусть стоит себе...
Иван не стал перечить. Стоит – пусть себе стоит, она Ивану не заминает, это барыне деревце не по вкусу, это ей все чудится в образе недоброе... а может, просто злость сорвать не на ком?
А небо катило тучи, тянуло ветром холодным, северным, гнало птичьи стаи к перелету, грозилось дождем пролиться, зимой на землю опуститься. Недолго ждать уже, день ото дня темноты прибавляется, света убавляется, день ото дня холоднее да неуютнее, и оттого дивно, что именно сейчас, на закате лета да недолгом, радужном разгуле осени, Никита Мэчган полюбил под ветлою читать. Придет, сядет с очередною книгою – а в доме тишком да шепотом переговаривались, что книги у барина все как одна зачарованные, едва ли не самим Антихристом писанные, – и листает странички, палец слюнявя. А то и забросит читать, повернется к обрыву да глядит на озеро, точно ждет кого-то. И что дивно: ветла егоная уже и не к воде – к хозяину тянется, набок кривится. И будто бы шелестит, нашептывает нечто тайное, иным людям недозволенное.
Может, беды в том и не было, у людей-то разные причуды случаются, а Мэчган человек спокойный, рассудительный, к людям больше с добротою да ласкою, но его ежедневные, даже в дождь и по заморозкам первым, бдения сильно барыне не по вкусу пришлись.
– Ревнует, – понимающе переглядывались бабы в доме, нимало не смущаясь, что ревновала Луиза к дереву.
– От безделья бесится, – говорили мужики, стараясь Луизу стороной обходить.
– Стервозина! – ревела Фанька, подбитый глаз рукою прикрывая. Снова ей, барыниной горничной, больше прочих перепало, добре, что хоть без розог обошлось. – Чтоб она сдохла! Сдохла!
– Замолкни! – Иван отвесил затрещину и, спохватившись, добавил: – Услышит еще.
Фанька на оплеуху не обиделась, прижалась, припала полной грудью к спине и, ткнувшись мокрым носом в ухо, зашептала:
– Правильно! Правильно Никита Данилыч делает! Лучше дерево любить, чем тварь этакую! Изведу! К Хромоножке пойду, зелье выпрошу, в ногах валяться стану, чтоб помогла только!
– Чего ты хочешь?
Иваново сердце замерло, тревожно, беду предчувствуя.
– Хочу? Хочу чтоб у нее волосья повылазили, чтоб рожа струпьями пошла, чтоб глаза загноились, губы сгнили...
Эту затрещину Иван в полную силу отвесил, по физии Фанькиной наглой, по рту ее болтливому, жабьему, по носу красному и веснушками побитому.
Дура! Что говорит? Да как только смеет!
Предупредить надо и... и еще раз поглядеть на круглое, пудрой забеленное личико, на глаза синющие, васильковые, на бровки тоненькие, угольками подведенные. Глядишь, и посмотрит ласково, и улыбнется, и ручку, в перчатке шелковой запрятанную, протянет, позволив губами коснуться.
Зажмурился Иван, чудо этакое представляя, и даже больше, о том, о чем прежде и помыслить не смел, а Фанька-тварь вывернулась угрем и, отбежав, на весь дом крикнула:
– Все равно по-моему будет!
– Вот, значит, как? – С шелестом раскрылся веер в руках Луизы, затрепетал, заставляя рыжие огоньки свечей согнуться в поклоне. – Извести меня решила?
– Девка глупая... – Иван ощутил укол стыда, достанется теперь Фаньке, крепко достанется. И хорошо если только выпорют, а то и...
– Глупая. А ты, значит, умный? Не страшно было с таким идти? – Села, расправила складки платья муарового, про каковое бабы сказывали, что будто бы стоит оно золотом по весу. Врали небось. Завидовали.
– Матушка, за правду радею... злое дело, Богу не угодное... грех смертный...
Смотрит глазами синющими, серьезно так, внимательно, точно впервые Ивана увидела.
– Подойди, – велела.
Подошел. Шаг. Другой. А она все манит и манит. Ручку протянула, сполохи огненные по шелку, знай ,гуляют, точно вьется, тянется золотая змейка, гладит пальчики тоненькие.
– Целуй. Благодарна я тебе, Иван, за верность твою и службу, за заботу и обо мне, и о дурочке этой, которая мало-мало себя не сгубила на веки вечные.
Трепещет ладошка барынина бабочкой диковинной. Ткань-то холодная, скользкая, но чудится сквозь нее тепло человеческое.
– Посоветуй, Иван. – Ручка, высвободившись, щеки коснулась. – Что мне делать теперь? Как поступить? Тому, кто убийство измышляет, след ли милости ждать?
Страшно стало, и хорошо, так, что глаза закрой – и прямо в раю очутишься; и голосок у барыни ангельский, слушал бы и слушал, как звенит, дрожит, переливается бубенчиками да колокольцами, водой родниковой по камням, льдом первым...
– Но не учил ли нас Спаситель о том, чтобы прощали мы врагов наших, ибо не ведают они, что творят?
Милосердна! Как есть милосердна! Ох недаром Иван каждую неделю в церкви свечку ставил за здоровье барыни, за то, чтоб снизошло на душу ее просветление.
– Но и грех без раскаяния не дело оставить... есть у меня задумка одна. Поможешь ли? – спросила и прямо в глаза глянула. Заледенел Иван, замер в восторге и благоговении.
– Так что?
Поможет! Все что угодно для нее сделает, хоть бы и сам Фаньку до смерти запорет!
– Не ошиблась, значит, я в тебе, Иван... – улыбнулась, ласково, добро. – Слушай тогда, что сделать нужно будет... и помни, что сказано в Писании: какой мерой мерите, той и вам отмерено будет...
Так и вышло.
На Дмития Солунского, аккурат, когда небо по-над озером серым стало, глубоким, а ветер, воду взбаламутив, на берег подался, выплескивая холода да мороки, исчезла Фанька. По первости не хватились даже, отрядили только к Луизе Зузанну, девку рукастую да норовом смирную, и принялись ждать. Минул день, другой, третий, одинаково муторные, дождливые, пропитанные сыростью да мглой, туманами, что подымались с озера, накрывая окрестности густым пуховым одеялом. А на четвертый, как отползли туманы, дождь поутих и тучи разошлись, раскрывая небо синее да чистое, солнышком зябким убранное, так Фанька и нашлась.
Никита самолично с вербы ее снимал, расплетая спутанные ветки, обдирая желтые листья да перепиливая ножичком вожжи. А потом, уложив Фаньку на мешок, Иваном принесенный, глянул на дерево и одно велел:
– Корчуй. Чтоб завтра же...
Хоронили Фаньку за оградой, хоть и отпели, и отплакали, как положено, а бабы потом долго перешептывались, друг дружке сказывая, до чего страшна покойница. Волосы-то у нее повылазили, кожа струпьями пошла, глаза выгнили, а губы спеклись блином черным, горелым.
Слушал Иван разговоры эти, крестился и повторял одно, другим непонятное:
– Какой мерой мерите, той и отмерено будет...
А ветлу свалил. Прямо спозаранку вышел на берег, разделся до пояса и, с размаху вогнав лезвие топора в толстый, но податливый ствол, сказал:
– По справедливости...
Скрипела ветла, тряслась, сыпала по-над озером желтыми листами, стонала по-человечьи... как Фанька... сама виновата... сама к знахарке пошла, сама зелье вымолила, сама слова на погибель сказала. Иван единственно из склянки отлил малость да саму Фаньку напоил...
Жгло внутри, корежило, точно не дерево – его рубили, рассыпая сыроватое крошево щепы, да выкатываясь невозможным осенним соком.
Кровь... не было крови. И вешалась Фанька сама, а Иван перенес только на ветлу, как хозяйка сказала.
Крепко она невзлюбила дерево. Может, и вправду ревновала. Да только нету больше Фаньки, и ветлы нету больше... голый берег скатывается вниз, желто-красный, полосатый, лишь у самой воды черный да топкий, с редкими желтыми искорками листьев. Да и то не понять, есть они или чудятся Ивану.
А на самом краю обрыва – яма черная, глубокая, страшная. Будто рана... И сердце колет, немеет, тяжестью наливаясь.
Но нет, не поддастся Иван, слишком много дадено, чтобы отступить. И не виновен он... какой мерой мерите... той и отмерено будет... верно все... справедливо.