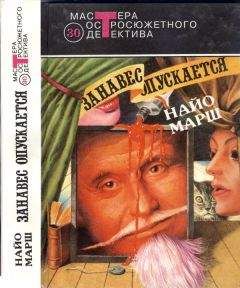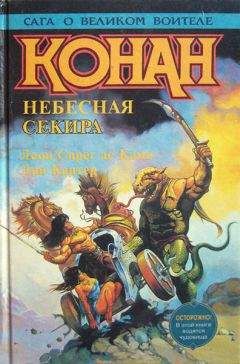– А другие?
– Другие говорили, что Господь и без того проявил к нам щедрость и мы со смирением должны принять то, что Он нам даровал. Что Он нас испытывает. Что слава – это змея, маскирующаяся под друга. Что мы должны отвергнуть искушение.
– А на чьей стороне был брат Матье?
Бернар подошел к большой утке, погладил ее по голове, прошептал какие-то слова, Гамаш их не расслышал, но интонация явно была благодарственная. Потом брат Бернар поцеловал утку в голову и пошел дальше. Яиц у нее он не взял.
– Он поддерживал настоятеля. Они ведь очень дружили – две половинки целого. Отец настоятель – эстет, приор – человек действия. Вдвоем они руководили монастырем. Без настоятеля не появилось бы никаких записей. Он был обеими руками за. Обеспечивал связи с внешним миром. Радовался успеху вместе со всеми.
– А приор?
– Это было его детище. Приор возглавлял хор и руководил записями. Он выбирал музыку, солистов, порядок песнопений. Ту запись мы сделали за одно утро в Благодатной церкви с помощью старой установки, которую настоятель позаимствовал во время посещения монастыря Сен-Бенуа-дю-Лак.
Гамаш, неоднократно слушавший компакт-диск с хоралами, знал, что качество записи невысокое. Впрочем, это лишь добавляло музыке очарования, подчеркивало ее подлинность. Никакой цифровой обработки, никаких многоканальных записей. Никаких фокусов, никаких подделок. Все по-настоящему.
И это было прекрасно. Запись передавала все то, о чем говорил брат Бернар. Когда люди слушали ее, им казалось, что они присутствуют при исполнении. Что они не так одиноки. Что они остаются отдельными личностями, но являются частью сообщества. Частью всего. Людей, животных, деревьев, гор. Внезапно все грани размывались.
Григорианские песнопения проникли в тела людей, перестроили их ДНК, и люди стали частью всего, что их окружает. Не осталось ни злобы, ни конкуренции, ни победителей, ни побежденных. Все поражало великолепием, и всюду царило равенство.
И все пребывали в мире.
Неудивительно, что люди ждали новых записей. Жаждали их. Настаивали. Приезжали в монастырь, стучали в дверь, почти в истерике требовали, чтобы их впустили. Чтобы дали новые диски.
А монахи им отказывали.
Бернар помолчал несколько секунд, медленно двигаясь по периметру двора.
– Продолжайте, – попросил Гамаш.
Он знал: монаху есть что рассказать. Всегда находилось что рассказать. Бернар не просто так прошел за Гамашем в душевую – он преследовал свою цель. Рассказать что-то Гамашу. Но хотя он и наговорил немало интересного, главного пока не прозвучало.
Оставалось еще кое-что.
– Тут дело в обете молчания.
Гамаш подождал и, не выдержав, подстегнул его:
– Говорите же.
Брат Бернар помедлил, пытаясь найти слова, чтобы объяснить нечто не существующее в большом мире.
– Наш обет молчания не абсолютный. Он иначе называется «правило молчания». Нам иногда разрешают говорить между собой, хотя при этом мы нарушаем покой монастыря и монашеский мир. Молчание считается добровольным и в то же время глубоко духовным.
– Но разговаривать вам разрешается?
– Когда мы принимаем обет, языков нам не отрезают, – с улыбкой ответил монах. – Однако разговорчивость не поощряется. Болтун никогда не смог бы стать монахом. В течение суток есть моменты, когда тишина наиболее важна. Например, ночью. Великое молчание – так это называется. В некоторых монастырях обет молчания не столь строг, но здесь, в Сен-Жильбере, мы пытаемся блюсти Великое молчание в течение большей части дня.
Великое молчание, подумал Гамаш. Вот что он чувствовал несколько часов назад, когда поднялся с кровати и вышел в коридор. Ему казалось, что он сейчас упадет в пустоту. А если бы он упал, то что ждало бы его на дне?
– Чем строже молчание, тем громче голос Господа? – спросил Гамаш.
– Скорее, увеличивается вероятность того, что мы его услышим. Некоторые монахи хотели, чтобы с них сняли обет молчания и они могли бы отправиться в мир и рассказать людям о музыке. Ходили даже слухи, что нас приглашают в Ватикан, но настоятель воспротивился.
– И что говорит братия?
– Одни рассердились. Другие почувствовали облегчение.
– Кто-то поддерживал настоятеля, а кто-то нет?
Бернар кивнул:
– Вы должны понять: настоятель здесь – нечто большее, чем начальник. Мы храним верность не епископу или архиепископу, а настоятелю. И монастырю. Мы выбираем настоятеля, и он сохраняет свой пост до смерти или добровольной отставки. Он наш папа.
– Он считается непогрешимым?
Бернар остановился и скрестил руки, положив одну из них на корзинку с яйцами в инстинктивно защитном жесте.
– Нет. Но самые счастливые монастыри – те, где монахи не оспаривают решения своего настоятеля. А наилучшие настоятели готовы выслушивать предложения монахов. Обсуждать любые вопросы в зале для собраний. Тогда они и принимают решения. И все с этими решениями соглашаются. Смотрят на них как на акт смирения и благодати. Речь идет не о выигрыше или проигрыше, а о том, чтобы выразить свое мнение. А там уж пусть решают Господь и братия.
– Но здесь ничего подобного больше не происходило?
Бернар молча кивнул.
– Кто-то из монахов начал кампанию за снятие обета молчания? Чтобы дать голос несогласным?
Бернар опять кивнул. Именно это он и хотел сообщить Гамашу.
– Это был брат Матье, – проговорил наконец Бернар с несчастным видом. – Это приор хотел снять обет молчания. И начались ужасные скандалы. Он был волевой человек. Всегда добивался своего. Прежде желания настоятеля и приора совпадали. А теперь разошлись.
– И брат Матье не желал подчиняться?
– Никак не желал. И постепенно другие монахи стали понимать, что стена может рухнуть, только если они тоже перестанут подчиняться и даже начнут сопротивление. Споры становились все более ожесточенными, более громкими.
– В безмолвном сообществе?
Бернар улыбнулся:
– Вы удивитесь, если я вам расскажу, сколько существует способов донести до других свою мысль. Гораздо более сильных и оскорбительных способов, чем слова. Повернуться спиной в монастыре – все равно что нецензурно выругаться. А закатить глаза – настоящая ядерная атака.
– И ко вчерашнему утру… – начал Гамаш.
– Ко вчерашнему утру монастырь лежал в руинах. Только тела все еще двигались и стены по-прежнему стояли. Но в остальном Сен-Жильбер-антр-ле-Лу умер.
Гамаш обдумал эти слова, потом поблагодарил брата Бернара, отдал ему корзинку с яйцами и двинулся со двора в сумеречный монастырь.
Мирная жизнь монастыря оказалась не просто расколотой, а уничтоженной. Что-то драгоценное перестало существовать. А потом на голову брата Матье обрушился камень. Расколол и ее.
Гамаш задержался в дверях и задал брату Бернару последний вопрос:
– А вы, mon frère, на чьей стороне? С кем вы?
– Я с отцом Филиппом, – ответил тот не колеблясь. – Я один из людей настоятеля.
Люди настоятеля, думал старший инспектор, когда несколько минут спустя вместе с Бовуаром входил в трапезную, где висела тишина. Многие монахи уже сидели на своих местах, но ни один не взглянул в их сторону.
Люди настоятеля. Люди приора.
Гражданская война, в которой воюют взглядами и жестами. И молчанием.
После завтрака из яиц, фруктов, свежего хлеба и сыра монахи ушли, а старший инспектор и Бовуар задержались за травяным чаем.
– Какая гадость! – Бовуар отхлебнул чая и скорчил гримасу. – Отвратительный чай! Я пью бурду.
– Это, кажется, мята, – сказал Гамаш.
– Мятная бурда, – пробормотал Бовуар. Он поставил кружку на стол, отодвинул от себя. – Так кто, по-вашему, убийца?
Гамаш покачал головой:
– Пока не знаю. Думаю, кто-то из сторонников настоятеля.
– Или сам настоятель.
Гамаш кивнул:
– Если приора убили в борьбе за власть.
– Кто бы ни выиграл борьбу, он получит контроль над монастырем, ставшим вдруг чрезвычайно богатым и влиятельным. И не только благодаря деньгам.
– Продолжай, – сказал Гамаш.
Он всегда предпочитал слушать, а не говорить.
– Если подумать, эти гильбертинцы отсутствовали в течение четырех веков, но вдруг случилось чудо, и они вышли из лесной глуши. И хотя сюжет не совсем библейский, оказалось, что гильбертинцы наделены божественным даром священной музыки. Нью-йоркский гуру от маркетинга не смог бы изобрести фишки получше.
– Только это не фишка.
– Вы уверены, patron?
Гамаш поставил кружку на стол и наклонился к своему заместителю. Его темно-карие глаза смотрели задумчиво.
– Ты хочешь сказать, что монахи все это подстроили? Четыреста лет молчания, а потом появление записи с малоизвестными григорианскими песнопениями? И все для того, чтобы обрести богатство и влиятельность? Довольно долгосрочное планирование. Хорошо, что они обошлись без акционеров.