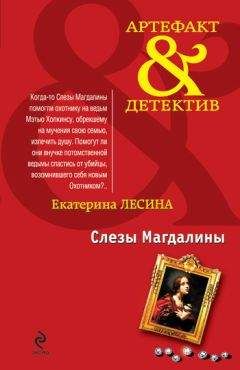– Безумие – слишком тонкая матегия, чтобы с ходу можно было сказать, кто безумен, а кто ногмален. У вас же, полагаю, имеют место подавленные воспоминания. Ваша голова, молодой человек, подобна шкафу, в котогом скгывается множество вещей. Одни на виду, дгугие в тайниках лежат. В ваших тайниках чегесчуг много всего. Кгитическая масса, если можно так выгазиться.
Память из обогащенного урана? Накапливается-накапливается, а потом бах? И голову в щепки. Вдребезги!
– Смею пгедположить, что когда-то оггомный пласт воспоминаний был заблокигован. Вегоятная пгичина – стгесс.
– Авария?
Аварию Влад тоже не помнит. Папа сказал, что она была, и Влад поверил. Зачем им лгать?
Действительно, зачем?
– Авагия. Или нечто дгугое, что скгыто за официальной вегсией. Нельзя убрать, не дав ничего взамен, – он часто моргает, и в уголках глаз скапливается белесая жидкость. – Пгедположим, что с вами случилась некая... непгиятность, котогая очень сильно повлияла на вас как на личность. Настолько сильно, что ваш газум, возможно, не без помощи специалистов, изменил ваше пгошлое. Заменил опасную память на безопасную. Но!
Замена памяти? Разве такое возможно? Влад прикоснулся к голове, пытаясь нащупать шрамы. Ему вдруг представилось, как он лежит в больнице, и кто-то – та самая медсестра, с ногами-столпами, которые шоркали по клетчатому полу, – вскрывает череп. Вынимает перегоревшую деталь из мозга и вставляет другую.
– Но постепенно ваше сознательное увеличивало давление на ваше бессознательное, находя аггументы пготив официальной, так сказать, вегсии. И чем дальше, тем остгее становился конфликт. С дгугой стогоны, его, несомненно, усугублял вгеменной фактог. Ничто не вечно, так сказать...
– И что мне делать?
– Вспоминать. Пгосто вспоминать. Лучше всего, конечно, обгатиться к специалисту. Пгоцесс восстановления будет болезненным.
Ему легко сказать: вспоминать. Как будто Влад не хотел бы. Хотел! И пытается. И не понимает, что же такое скармливает ему его собственное «я», будто задавшееся целью его, Влада, свести с ума.
– Поговогите с вашими годителями.
– О чем?
– Хотя бы о вашей, как вы утвегждаете, несуществующей сестге. И если будет желание, то обгащайтесь, – он протянул черный прямоугольник. Ну надо же, мозголом, а визитки как у гробовщика. – И не спешите судить их. Не спешите судить кого бы то ни было. Повегьте, это совегшенно беспегспективное, и более того, очень вгедное занятие.
Мудрый карлик явно чего-то недоговаривал, и Влад хотел было возмутиться, но перед глазами вдруг возникла монетка, заплясала, завертелась, засверкала серебром, совсем как пескарь на удочке...
– Психичка! Психичка! – донесся ехидный голос. И комок грязи шлепнулся на голову. Ну скотина... дай только догоню.
И вспомню, как тебя зовут.
Димыч чувствовал себя цирковой лошадкой. Бесконечность круга арены, белый песок под копытами, шлепки хлыста, ленивые, потому что лошадка и так знает, что нужно бежать. Софиты. Взгляды.
Смотрят с фотографий умершие ведьмы. Крестом разложены – не нарочно вышло.
Смотрит, выжидая, Надежда.
Пялится из прошлого Маняшка, подмигивает: дескать, что ж ты, дурачок, понять не можешь? Все ведь просто. Ты мне, я тебе, и все довольны.
Дверь кабинета распахнулась, и на пороге возник лысый тип в клетчатом пиджаке. За плечами типа возвышались еще двое, выше и шире в плечах, облаченные в одинаковую костюмно-черную униформу телохранителей.
– Это к тебе, что ли, Машка бегала? – поинтересовался тип, усаживаясь на стул. Он закинул ногу на ногу, достал из кармана толстую сигару, которую зажал в кулаке, словно дубинку.
Наверное, над типом можно было бы посмеяться.
Невысокий, уродливый – голова лысая и какая-то приплюснутая, шея короткая, мясистая, вылезает из воротника-ошейника складочками шкуры, а квадратный подбородок отливает синевой свежей щетины. И костюм смешон, ладно скроен, да криво сидит, собираясь складочкой на впалом брюхе.
– Так к тебе?
– Если о Свиридовой Марии речь, – почему-то Димыч сразу понял, о какой Машке его спрашивают, – то да, она приходила. Я заявление принял.
– Принял он... только не предпринял! Девочку поуродовали, а он мне – «принял»!
Голос у гостя низкий, рокочущий. Тон ничего хорошего не предвещает.
– Ты мне скажи, кто это сделал?
– Дело будет...
– Ты мне лапшу на уши не вешай, а? Я тебя как человека спрашиваю. Кто?
– Как человеку и отвечаю: разберемся.
Пыхтение. Голова уходит в плечи, а плечи подаются вперед. И выходит, что тип уже над столом нависает, над бумагами Димычевыми. Руки легли поверх фотографий, локти растопырились, принимая вес тела.
– Слушай сюда, умничек. Пока ты разбираться хочешь, моя девчонка помереть может. А Машку я люблю. Я жениться на ней собираюсь. И чтоб детей родила. Мечта у меня такая. А за свои мечты я любому глотку перерву.
Димыч поверил. Сразу и безоговорочно.
– Я сюда вообще не пришел бы, когда б не Надька. Она сказала, что ты точно знаешь, кто это сделал... – пальцы собрались в кулак.
Ну Наденька-Маняшка, удружила, нечего сказать. Она что думает, что Димыч просто так возьмет и сдаст Влада? А ведь думает. И радуется замечательному варианту.
– Я. Не. Знаю. И буду благодарен, если вы сделаете так, что меня пустят к потерпевшей...
– Машка в отключке. Это первое. Второе.
Сигара уперлась в нос Димыча. Пахла она прекрасно.
– Второе – когда она прочухается, то разговаривать с ней буду я. Понятно? А ты, паря, сделаешь так, как тебе скажут. Ты же будешь сотрудничать, верно?
Ему не нужен ответ. Он и так уверен, что на такое предложение невозможно ответить отказом. И Наденька уверена. Все вокруг уверены, что могут купить Димыча с потрохами. Кто он в этом долбаном мире? Никто. Шарапов, промахнувшийся со временем.
– Надька сказала, что у тебя серия, – лапа сгребла фотографии со стола. Снимки замелькали в корявых пальцах, словно карты в руках гадалки. – И что ты сам хочешь остановить этого психа. И я хочу. Мы будем хотеть вместе. Ты не стесняйся, говори. Чем смогу – подмогу. Только уж и ты постарайся, лады?..
...постарайся сделать так, чтобы мне больше не приходилось разбираться с этим! – Палыч зол. Когда зол, усы у него топорщатся, как у кота дворового. И левый отчего-то становится выше правого.
– Они первые начали!
– И что?
– Ну... они обзывались. Я что, молчать должен? – Димка заводится с пол-оборота. Жива еще недавняя обида. Просека. Качели. Небо, разбитое на лоскуты сосновыми ветвями. Зеленые яблоки на дичке. Кисло, но вкусно. И еще рожь, которую можно на костре пожарить.
И компашка. Загодя увидел, еще с опушки. Хотел уйти, но передумал. Он тоже имеет право быть здесь. Подходили медленно, с опаской. Пусть их больше, но он сильнее и не раз показывал. Но сейчас воевать лениво. Качели скрипят, небо сыплет зеленой хвоей, а яблок надрал много.
Впервые захотелось поделиться.
Наверное, если бы не то его желание, не рука, протянутая Васюку, с яблоками и миром в ладони, все было бы иначе. Но удар – по пальцам, а будто под дых, – и яблоки в песок. И слова как иглы под ногти. Сволочи. Бил в нос, и в зубы, и катался с кем-то, визжа и пытаясь зубами за ухо ухватить.
Но они же первые начали!
– Пойми, Дима, не имеет значения, кто начал первым, – Палыч снимает очки и достает сигареты. – Ты уже достаточно большой, чтобы понять: жизнь не всегда справедлива. И порой приходится поступиться правдой для того, чтобы кому-то другому стало лучше... Ты лезешь в драку, а страдают все. Смотри, закроют приют, разошлют вас по другим домам. Разве это хорошо? Стоит ли Париж такой обедни?
– Так что, паря, договорились? Скажешь имечко?
– Да пошел ты!
Димыч вскочил, готовясь ответить ударом на удар, но лысый лишь хмыкнул. Он ушел спокойно и с достоинством, как уходил бы дьявол, уверенный, что обязательно вернется.
– Черт! – Димыч сгреб снимки в ящик стола. – Черт, черт, черт... Надька, куда ты лезешь? А я куда?
Ответа не было, а время улетало.
Вопрос 8: Когда эти соски находят, но этого мало для осуждения, ведьм пытают, не давая им спать две или три ночи подряд, чтобы они наговорили на себя что угодно; такой способ хорош для приручения диких соколов или лошадей.
Ответ: Когда дело обнаружения ведьм пребывало еще во младенчестве, такой способ считался не только подходящим, но и рекомендовался судьями Эссекса и Саффолка с одним только намерением: если не давать ведьме заснуть, то она скорее у всех на виду призовет на помощь своих бесов, что часто и случалось. Редко, почти никогда ведьмы не жаловались на недостаток отдыха, но после того, как некоторые из них разбили себе в тюрьме головы, судьи запретили такую меру, и с тех пор – а тому уже полтора года – это средство не применялось, никого не держали без сна по указанию суда. Но, может статься, некоторые ведьмы не спят из чистого упрямства, хотя никто их такой возможности не лишает, и даже наоборот.