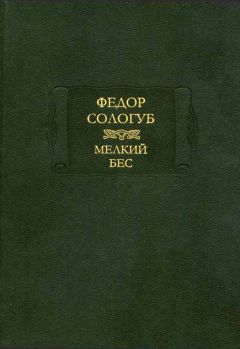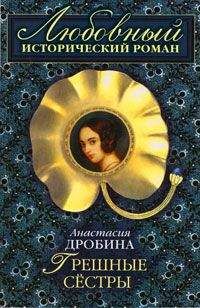Анна Казимировна снова прикурила потухшую сигарету, не спеша затянулась. Взглянула в окно на затягивающееся тучами небо.
– День тот ветреный был… До сих пор помню – рябина под нашим окном стояла, красная-красная, и ветер ей эдак-то ветви выворачивал, что я по пять раз на день к окну бросалась – думала, пожар занимается. Но в тот день еще ничего не жгли. Пана моего третьи сутки дома не было, я уж помирала со страха, то плакать кидалась, то молиться. Все, думаю, сгинул, не увидимся больше. Вдруг, Езус-Мария, слышу калитки стук! Влетает. Голова завязана, глаза бешеные. Я – к нему: «Что ты, пан мой, Николай Владимирович, душа моя, что?» А он в одну руку – мое золото горстью из шкатулки, в другую – меня, и – вон из дома. «Куда?!» – кричу. «Молчи», – говорит. И меня за собой тащит. Я хоть и перепугалась, но вижу – не к порту бежим, значит, в Констанцу не плывем пока. А в голове бьется, что никаких вещей собрать не успела, голыми убегаем, на нем – шинель, на мне – платье черное со шнуровкой да шаль, чтобы живота не видно было. Бежим по улице, как ошпаренные. Тихая такая улица была, людей – никого, и пальбы не слышно, а ведь тогда по всей Одессе грохот стоял. Смотрю – впереди церковь русская. Пан мой – по ступенькам наверх, я – за ним. В церкви – пусто, один поп молится. Старенький такой попик, в чем душа держится. Пан мой меня к попу толкает и говорит ему: «Окрестите ее». Я только рот открыла, а Николай Владимирович на меня ТА-АК посмотрел… У меня спина сразу замерзла и язык присох. От страха не помню, как и окрестилась. Поп молитву говорит, мне за ним повторять надо, а у меня язык заплетается, бормочу сама не знаю что… Только окрестили, только последний раз «Верую» поп прочел, – пан мой снова к нему: «Венчайте!» – и меня за руку к алтарю тащит. Как я тогда с перепуга не выкинула – побей бог, не знаю. Ведь на последнем месяце ходила! Но молчала, не спорила. Раз, думаю, делает, значит, так нужно ему. Военное у нас венчание вышло – без колец, без шаферов. И ни одного человека в церкви. После мы уж как уговаривали попа золотишко мое за труды принять – не согласился, святой человек. Ни копейки денег не взял, благословил нас и сказал, чтобы поскорей из города шли. А куда нам было идти?.. Ночь мы с Николаем Владимировичем дома пересидели, не спали. Огня не жгли. Пан мой все на меня смотрел своими глазами синими и молчал. Раз только назвал меня графиней Орловой и улыбнулся – да так, что я реветь начала. Он приказал не плакать. Икону мне отдал. Пусть, говорит, хранит тебя и дитя. Утром, едва рассвело, ушел. И больше я его не видала.
Анна Казимировна умолкла. Толстый кот встал с половичка и заходил взад-вперед по горнице, подняв пушистый хвост.
– А что потом, бабушка? – чуть слышно спросил Миша.
– Потом… Потом по всему городу грохотало. Я сижу в комнате на полу, уши руками зажала, об одном молюсь – не выкинуть, не выкинуть… На рябину за окном смотрю, а она мечется, мечется, красная… И в мыслях нет, что узлы вязать надо, золото прятать, в порт бежать. Так и сидела бы до второго пришествия – спасибо, Юзыся примчалась. Тоже полячка была, жила через дом, мы с ней дружили. Она видела, как утром Николай Владимирович уходил, и, когда стихло немного, побежала меня проведать. «Красные, – кричит, – в Одессе, а ты тут в муаровом платье сидишь, графиня?!» В один миг меня из платья того вытряхнула, заставила юбку и кофту старые надеть и потащила к себе. Тащит и учит: «Как хамы придут, говори, что ты моя сестра, беременную не тронут, не обидят». Спасибо Юзысе… Если б не она, поймали бы меня в этом платье да к стенке поставили вместе с животом моим – белого офицера жена, контра! Я насилу успела икону схватить да золотишко мое несчастное. Ночью мы с Юзысей его в печь под кирпичи спрятали. А на другой день и вправду красные пришли. Но, правда, нас не обижали. Прошли по комнатам, ковер с пола забрали и фарфоровые чашки из горки побили, Юзысиной бабушки. Сказали – буржуйство. Мы с Юзысей притворялись, что по-русски не понимаем, они спрашивают – мы по-польски отвечаем… В Юзысином доме я и родила – мальчика. Как Николай Владимирович велел, Колькой назвала и в русской церкви окрестила – тогда еще можно было.
– А как же дальше?
– Дальше – зима… Красные в Одессе обосновались, сказали – навечно. Я в госпиталь к ним пошла работать – золотишко мое еще осенью ушло. Яиц пяток – кольцо золотое, муки полпуда – браслетка… Скоренько ничего не осталось. А в госпитале хоть и не платили, зато пайку хорошую давали. Там и Ивана я встретила. Он командиром красным был, с прохваченной грудью у нас лежал, и фельдшер говорил, что не жилец уже. Я раз на командира взглянула, другой… Нет, думаю, жить-то пан будет. Ночью, во время дежурства, пришла, села возле него и шептать начала, как бабка-покойница учила. Час шепчу, другой – уж светает… Фельдшер сунулся было, да я в него костылем запустила – не лезь, говорю, товарищ. Шептала так, шептала, да и заснула. Потом чую – трясут меня. Открываю глаза – полна палата народу, фельдшер прыгает и носится, про восьмое чудо света кричит, а Иван сидит на койке. Сидит! А месяц не вставал, и поили с ложки! Потом уж я к нему каждый день ходила. Он молодой был, лет на десять Николая Владимировича моложе, веселый. Рассказал, что русский, из-под Калуги, третий год воюет, а в деревне у него мать с сестренками и хозяйство. Я еще удивилась – такой большой красный начальник, а про коров-курей вспоминает, как про царство небесное. Смешил меня все время. Ходить ему еще трудно было, а утку признавать не хотел, так я его каждый раз чуть не на себе в отхожее место таскала. Приду к нему, скажу: «Проше пана по надобности…» Иван – ну хохотать! «По-буржуйски, – говорит, – это, сестричка! Надо так: „Товарищ Опенкин, шагом марш в нужник!“ Сидим, смеемся оба, фельдшер бежит, ругается… Так зима прошла. Я тогда еще в Юзысином доме жила, сами они уже месяц как с греками в Балаклаву уплыли. Кольку маленького, пока работала, евреям по соседству отдавала, им какая разница – девять или десять по дому ползает. Ихняя Хава меня и надоумила. „Если, – говорит, – такой шановный пан со звездой к тебе ходит, не пробрасывайся. Господа не вернутся, так жить все равно как-то надо. Тебе мальчика поднимать, а на Привозе говорят, что хлеба нет и совсем не будет скоро“. Подумала я, поревела, сходила в церковь – и к весне уехала с Иваном из Одессы.
– Он знал, что вы графиня Орлова? – тихо спросила я.
Анна Казимировна усмехнулась:
– Слава богу – до последнего своего дня не чуял. Я ему сказала, что мужа Петлюра убил, а родня с голоду перемерла. Война кончилась, и я с ним и с сыном в эти Вязичи приехала. Это сейчас здесь полторы бабки костьми скрипят, а раньше – огромное село было, с церковью, со школой, с клубом. Семья у него была большая, работы много. И как Ивана на все хватало! И хозяйство поднимал, и с мужичьем ругался про советскую власть, и в область ездил учительницу в школу требовать, и трактора выбивал… По ночам сидел книжки читал. Стыдно, говорил, красному командиру с одним классом церковно-приходской мировую революцию делать. За ним вся деревня, как за апостолом, ходила.
– А икона? – встрял Миша.
– Ну, икону-то свою я отстояла. Иван все выбросить хотел, говорил – смех перед доской в пол лбом колотить. Спасибо, мать его, свекровь-покойница, заступилась. Икона, говорит, письма древнего, староверческого, грешно ее глупым словом обижать. И – в красный угол ее. Иван рукой махнул: «Бабье несознательное…» Спорить с нами у него времени не было. И лет пять мы с ним прожили. А потом снова началось.
– Коллективизация? – догадался Миша.
– Она. Вся деревня с ума посходила. Никто не хотел скотину отдавать в колхоз. Слухи такие ходили, что креститься люди не успевали. А как раскулачивание пошло, так Ивана моего на сходке чуть не порешили. Он и сам ничего толком не понимал – что там в Москве начальство выдумало. Мне говорил, что, мол, не по-революционному это, чтобы людей из домов гнать, и добро бы кулаков – а то и середняцкие семьи тоже. Ведь и мы не нищие были, две лошади, две коровы, семья с утра до ночи работала, так что же теперь – все голоте распьянцовской отдать? Пьянь-то нашу деревенскую я хорошо знала. Сколько им ни дай – все в кабаке спустят, а работать все равно не станут, потому как не приучены. Иван с мужиками поговорил и поехал в область ясности добиваться. И – добился…
Анна Казимировна вдруг умолкла. Аккуратно прикоснулась к глазам концом полотенца, вздохнула.
– Его арестовали? – тихо спросила я.
– Я тогда ничего не знала. Сколько ни искала, сколько по начальству ни бегала – все впустую, никто мне ничего не рассказал. Письма писала и в область, и в Москву, собралась было сама ехать на прием к Сталину пробиваться, так, слава богу, свекровь не пустила. На пороге с топором стояла и кричала: «Не дам тебе, дура, от пятерых детей к антихристу в нору лезть!» Покричала я, повыла… но детей-то правда уже пятеро было. Помолились мы и тронулись всей семьей в колхоз. Больше все равно делать было нечего. А там – война, сперва финская, потом – с Гитлером. Потом – Хрущев с кукурузой со своей… Потом мне бумага из Москвы пришла. Мол, Опенкин Иван Дмитриевич за отсутствием чего-то там… То есть не бандит оказался. И не контра. – Анна Казимировна горько усмехнулась. – Спохватились, рабы божьи. После того, как троих его сынов на войне положило. А Кольку икона хранила, вернулся живым и целым. Шестерых детей родил, все потом в город поуезжали. Я никого не держала, всяк ищет где лучше. А я и одна живу, не пропадаю. Ванда опять же ездит…