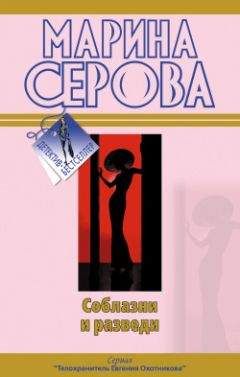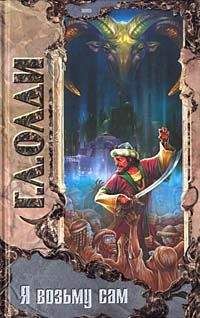– Ну, – спросила я грозно, – что тут произошло?
У Капиной постели толпились какие-то женщины с кавказскими чертами лица (как вскоре выяснилось, это были ее соседки по площадке), они размахивали своими длинными руками, как чайки крыльями, и беспорядочно гомонили, увеличивая тем самым свое сходство с этими птицами до почти что полной идентичности.
– Что тут произошло?
– Газ… – прошептала Капитолина. – Газ! – сказала она уже громче, навстречу вошедшему в квартиру следователю Курочкину. Валентин Игнатьевич, увидев меня, отмахнулся, как от привидения, и как-то боком, мешком, плюхнулся на приставленный к стене стул. Пути к отступлению были для него перекрыты гомонившими соседями…
– Ну и что – газ? – спросила я, еле скрывая раздражение.
– Жэнщина! – сквозь птичий гвалт прорезался один, с трудом различимый гортанный голос. – Жэнщина! Ты нэ кирчи тут, э, – дай сказать аксакалу!
На передний план выступил здоровенный и дико красивый брюнет. Он повел плечами – и внезапно галдеж за его спиной стих, «ужался» до слабых перешептываний. Брюнет повел бровью – и шепот тоже оборвался.
– Слюшай сюда, э! – сказал абрек тете Миле, и она, испуганно съежившись, скосила на него один глаз. – Я шел с работы. Сматрю – жэнщины бэгают. Что такое, э? Газом пахнэт. Оттуда, – он кивнул на входную дверь Капиной квартиры. – Разит газом, э! Я гаварю Манане: вызывай горгаз! А сам думаю: пока горгаз приэдит, старушка помрет, э! У менэ, – аксакал ударил себя в черноволосую грудь, – тоже эст старушка-мат! Я хароший сын! И я взломал двэр. От так, плэчом поддел – и паламал, э! Лэгко!
– Маладэц! – сказала ему я, а Курочкин, с укоризной взглянув в мою сторону, вежливо обратился к аксакалу:
– Вы поступили просто великолепно! И правильно во всех отношениях, спасибо вам огромное, я думаю, что и представители милиции и горгаза оценят ваш поступок… Только – вы уж простите, но таков порядок – пожалуйста, пройдите сейчас к себе, мы к вам зайдем чуть попозже, расспросим вас обо всем, а пока что…
– Все понял, камандыр! Уходым!
И он одним властным кивком увлек свой гарем за дверь.
– Дверь-то он вовсе не взломал, – заметила я секундой позже, ощупывая косяк. – Эту дверь так просто не взломаешь никаким плечом – даже его! Она, похоже, просто была открыта.
– Так, – сказал следователь Курочкин, когда в помещении остались «только свои». – И что же здесь произошло?
– Ну, вы же слышали, – ответствовала я с иронией. – Очередное покушение! Я правильно понимаю, Капа? Покушение? Или вы сами забыли завернуть кран?
– Нет, нет, – испуганно забормотала Капитолина. – Я не забывала. Я к крану не прикасалась. Я сидела тут, дома, совсем одна, я ждала Илону…
– Кого?! – прошептала тетя Мила и оглянулась на меня. Мой приятель-следователь тоже пугливо заозирался: он не любил сумасшедших.
– Илону, я ждала Илону – она давно не была у меня, я ждала… а потом уснула.
– И не закрыла дверь?
– Да, не закрыла. Я задремала. Но сквозь сон я уловила какое-то движение, кто-то заглянул в комнату, потом – тихие такие шаги на кухню, там кто-то повозился… Я подумала: вот, пришла Илоночка, готовит ужин, теперь я не одна! И я снова уснула.
– И больше ты не просыпалась?
– Нет… Вот только когда эти ворвались…
– Ага!
Дополнительные вопросы я задавать не спешила.
– Простите, но почему же вы решили, что вас хотели отравить газом? – с преувеличенной учтивостью обратился Курочкин к Капе. – Что произошел не несчастный случай, а именно покушение на вашу жизнь?
– Ах, боже мой, потому что я все вспомнила… И что погиб мой бедный Вадик – мальчик покончил с собой, а я даже не знаю, из-за чего! И что Илона…
– Так вы вспомнили, что Илона умерла?
– Да, да… И я подумала, что уж моя-то жизнь и совсем ничего не стоит…
– Ну, не скромничай, – ласково сказала ей тетя Мила.
– Правда, правда. Совсем-совсем ничего! Но я испугалась. Я так испугалась! Поэтому позвонила вам.
– Погодите-погодите, – Курочкин с натугой, но все же соображал, – что значит «мальчик покончил с собой»? Какой мальчик? Потерпевший Алтухов? Так он отравился, что ли, сам?!
– Ах, я не знаю…
И вновь наступила тишина. Ее прорезал тонкий, чуть толще комариного, писк – я не сразу поняла, что этот звук издавала Капа. Она, как это бывало уже много раз на моих глазах, повалилась на свой диван, и, отвернувшись от нас, пыталась, не вставая, вынуть из-под себя покрывало и укрыться им с головой. Издаваемый ею звук нарастал, переходя в скулеж, он длился и длился, все время на одной ноте – это было ужасно!
– Ну хватит, Капитолина, – жестко сказала я.
Звук оборвался.
– Хватит, – повторила я непреклонным тоном. – Видит бог, мне было жаль вас. Очень жаль! Но вот цирк вам не надо было устраивать. Тем более – из смерти!
– Из чьей смерти? Какой цирк? – не выдержал и вступил-таки со мной в беседу следователь Курочкин.
– Цирк – это такое представление, состоящее из нескольких номеров, главным образом трюков, лежащих за пределами обычной логики, Валентин Игнатьевич. То есть как раз то, что пытается нам продемонстрировать Капитолина.
– Женя… Да ты что! – пробормотала тетя Мила, потрясенная моей жестокостью.
– Да, и каждый раз – с выдумкой, с новой находкой, изюминкой… причем во всех трех происшествиях! И вот в этом самом эпизоде с газом – ведь вы сами инсценировали это покушение на себя, – и в случае смерти Вадима, и его матери Раисы, и Илоны… Это ведь вы всех их убили, Капа!
Накрытое покрывалом тело дрогнуло – и замерло. Поворачиваться к нам Капа почему-то не спешила.
– Да, – повторила я, – это вы… Когда я уверилась в этом окончательно, мне стало так… не по себе! Вы ведь подруга моей тети, Капитолина, вы с ней давние подруги, и я тоже любила вас… Но сегодня арестовали одну девочку, а она ни в чем не виновата. Это вы подбросили ей в карман крупинки яда, которым отравили Вадима! Когда вы это сделали? Тогда, на свадьбе? Думаю, да. Ведь девушка наверняка повесила свою ветровку на общую вешалку в коридоре; вам ничего не стоило сунуть ей в карман в самом деле убийственную – простите за плохой каламбур! – улику…
Неужели картина стоимостью в сто (или больше) тысяч долларов может перевесить целые три человеческие жизни? – продолжала я при полном молчании окружающих. – То есть я слышала, что людские жизни иногда оценивают и дешевле… Но ведь вы могли бы завладеть этим полотном, никого и не убивая – вот что мне непонятно! Стоило просто вынуть его из не самого сложного тайника, предъявить искусствоведам и заявить свои права на картину. И никто бы не оспорил у вас права владения, и не потребовалось бы убивать…
Знаете, когда я заподозрила вас в первый раз? В тот день, когда вы, вот в этой комнате, так точно перечислили содержимое этюдника Вадима. «Все, что осталось мне от моего мальчика – какой-то ящик с красками, две палитры, кусок холста и незаконченный портрет!» – сказали нам вы. Все это действительно мы вскоре обнаружили в ящике. А ведь перед этим вы нас уверяли, что ни разу не видела того, что находится в этюднике, что Вадим не разрешал вам даже приближаться к наброску… Это было первое. А потом я вспомнила другое. Эта ваша привычка все время крутить и вертеть что-то в руках… Мы все свыклись с этой вашей манерой, почти не замечали ее, а ведь в вечер убийства мальчика вы все время комкали в руках салфетку, а в салфетке очень легко спрятать яд! Цианид – его ведь не так много надо…
И, наконец, вам настолько удалось уверить всех нас в том, что вы сидите дома безвылазно, поглощенная горем до глубины души, что никто из нас даже и не пытался это проверить. Но в тот день, когда убили Раису, шел очень сильный дождь. Когда мы с тетей Милой зашли вас навестить, то даже не насторожились, наткнувшись на ваши туфли, а ведь на них налипли комья грязи, и сейчас я вспомнила, что грязь была совсем свежей, иначе она давно бы уже высохла и осыпалась… Вы очень долго дурачили нас, Капа, и это позволило вам несколько раз уйти безнаказанной. Все три раза: когда вы убили Вадика, Раису и Илону.
Три жизни – из-за какой-то картины, из-за небольшого полотна пятьдесят на шестьдесят пять сантиметров! Неужели это было для вас так важно, Капа?! Кстати, а где эта картина? Я знаю, она действительно находилась там, за изображением нелепого гусара: когда я сняла ее со стены, то обратила внимание, что ни на раме, ни – и это главное! – под ней не было ни пылинки. Саша и Вадим были правы в своих рассуждениях: картина действительно была скрыта за изображением гусара, правда? Они ошиблись в другом: слово «скрыта» надо было понимать в буквальном смысле: то есть спрятана между застекленным изображением всадника и задней фанерной планкой! А они, будучи художниками, переиначили сведения на свой лад: «скрыта», решили они, – значит, скрыта под другим, нарисованным поверх слоем краски…
Три жизни – за одну картину! Или нет? Или все дело в чем-то другом? На эту мысль меня натолкнул ваш трюк с якобы предсмертной запиской Вадима: я потратила пять часов, чтобы разгадать ее, и, похоже, теперь я знаю все… Это действительно прощальная записка к Капитолине, но не предсмертная – просто прощальная. Не зря я удивилась уже тогда, увидев, что бумага так сильно потерта на сгибах: для недавнего письма это было странно, да и адрес на конверте был написан все же другой рукой… Вы не хотели отдавать письмо на экспертизу – почему? Показав его мне и тете Миле (самым, на ваш взгляд, надежным свидетельницам), вы пытались истрепать его и вовсе до невозможного состояния, не выпуская бумажку из рук и поливая ее фальшивыми слезами. А ведь в том случае, если это письмо действительно было вам так дорого, вы бы постарались хранить его как можно бережнее. Так в чем же дело? Мне кажется, я знаю, в чем.