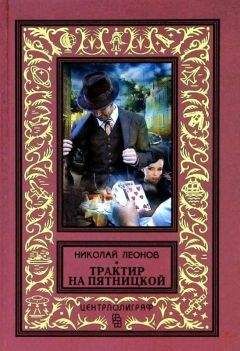- Поднимусь, морду набью...
- Она мне работать мешает, все думаю, думаю, даже разговариваю. Поверишь, вслух разговариваю. Нам обоим лечиться надо, только по разным больницам. Тут ты меня опять обскакал, надорвал сердце, защищая свой пролетариат. Я же двинулся на почве пережитков средневековья.
Мелентьев старался как можно дольше удержать Костю на диване. Старый сыщик раньше не замечал за собой склонности к сочинительству. Никакой любви у него не было, сейчас, помогая Косте оправдать его чувство к Латышевой, он лгал так складно, что самому нравилось.
- Прихожу - Анна в кресле сидит, голова в золотом облаке, лицо - как у камеи, глаз не поднимает. Прошепчет чего-то - это поздоровалась, поднимется неслышно - и книксен изящный. Начальник, ты знаешь, что такое книксен? Темный ты, Константин Николаевич...
Костя с дивана сполз и, шлепая босиком - сапоги Мелентьев стянул, добрался до стола, осторожно водрузился в кресло.
Вскоре уже говорили о делах.
- Не верю, - сказал Мелентьев убежденно, хотя думал и чувствовал совсем иначе. - Не даст себя Сур-мин зарезать...
- А зачем Даше, - Костя запнулся и покраснел, - Латышевой звонить, говорить такое?
- Я не знаю, зачем она звонила, - быстро, не давая себя перебить, заговорил Мелентьев. - Но то, что Паненка перед тобой открылась, - факт, безусловно, отрадный. Значит, девчонка засбоила, извини за жаргон, сам не люблю. Можно предположить, что
Корней, обманув Дашу, сообщил ей об убийстве. Замарать ее решил и проверить заодно, взглянуть на реакцию. Как бы он звоночек ее не засек хитер, подозрителен.
- Даша тоже не из простых, - несколько успокаиваясь, ответил Костя. Откуда у нее воровская манера растягивать слова и этот "начальничек", - он понял, что говорит абсолютную чушь, и замолчал. Не мог Костя Воронцов окончательно поверить, что его Даша - девчонка воровского мира.
- Решила она перед тобой открыться, так по телефону легче. Может, смерть, о которой ей Корней сообщил, потрясла: твое влияние сбрасывать со счетов не следует. Помолчи! - неожиданно грубо сказал Мелентьев, за годы совместной работы Костя впервые услышал от него безапелляционный тон. Большевик, из рабочих, а переживания у тебя - как у гимназисточки, начитавшейся мадам Чарской. Ах, я гулял с девушкой под ручку! Ах, я влюбился! - патетически восклицал он и театрально заламывал руки. - Я, уважаемый товарищ Воронцов, декрета, запрещающего влюбляться, не читал.
- Она преступница-рецидивистка! - Костя ударил кулаком по столу.
- Вы на меня не кричите, - тихо сказал Мелентьев. - Вы, Константин Николаевич, за свое происхождение и преданность Советской власти начальником назначены. По своим деловым качествам, извините покорно, вы передо мной должны стоять.
Костя недоуменно разглядывал Мелентьева, будто увидел впервые.
- Интересно получается, - продолжал Мелентьев. - При самодержце Иван Мелентьев приличный оклад не мог иметь - родословной не вышел, о преданности своей не кричал, задов высокопоставленных не целовал. И теперь Иван Мелентьев не хорош. Почему? Опять же, родословная подвела, и на митингах не кричу. Костя, как ты думаешь, будет время, когда человека по его делам оценивать начнут?
- Хороший ты специалист, Иван Иванович? - спросил Костя.
- Профессионал.
- Холодный ты, Иван, - Костя вздохнул. - Гордость побоку, возьмем Латышеву. Она на каторге родилась, с ножа ела, человеческого слова не слышала...
- И помоги ей - она нам поможет...
- Вот-вот, - усмехнулся Костя. - Ты - мне, я - тебе. Ты человеку дай, еще раз отдай, а последнее подари.
- Ты вроде в семинарии не обучался...
- Богаче становится не тот, кто берет. Хватит теорий, субинспектор. Когда тебя по заслугам оценят, встану, освобожу место, а пока к тебе вопрос.
- Чем могу, - Мелентьев наклонил голову.
- Мы воровской сход окружим и упрячем в домзак, - Костя загнул палец. - Сколько среди них будет нелегалов и разыскиваемых?
- Трое-четверо...
- Остальных мы через сутки освободим, - Костя загнул второй палец.
- Мозги промоем, приструним...
- Озлобим, - возразил Костя. - Пойдут они на глазах друг друга в тюрьму? Не пойдут. На миру последняя сопля станет оглоблей выламываться. Начнем крутить, бить - возможна перестрелка. Сколько потеряем людей? Сколько убьем? Сколько человек намотает себе срок по горячке?
- Что вы предлагаете, Константин Николаевич?
- Я совета прошу, уважаемый Иван Иванович. Вы профессионал.
- Надо доложить по инстанции, - Мелентьев кивнул на дверь.
- Волохову мы, конечно, доложим, однако, полагаю, собственное мнение иметь обязаны.
- Окружать и брать подчистую, - сказал Мелентьев. - Только без солдат...
- Красноармейцев...
- С военными всегда сутолока и стрельба - операцию проводить оперативным составом. Брать с двух сторон, снаружи и изнутри. Узнав пароль, войти на сходку.
- У батюшки, во время вечерни, - пробормотал Костя. - Сколько церквей в Москве?
Мелентьев взглянул недоуменно, улыбнулся настороженно, поняв, что его не разыгрывают, рассмеялся. Воронцов нахмурился, Мелентьев рассмеялся еще пуще, белоснежным платком вытер глаза, протер пенсне.
- Так в церкви, полагаете? - Мелентьев согнал с лица улыбку. Батюшкой московское ворье Беремся Кузьмича Селиверстова величает. Он в молодости по части церквей шустер был, а сейчас содержит трактирчик на Марьинском рынке. Извозчики да грузчики, девочки попроще, самогонка. Место умный человек выбирал: Марьина роща, кварталы хибар, не приведи господь. Там за каждым углом два входа и три выхода. Люди годами живут, все друг дружку в личность знают, любой чужой, как его ни одень, засветится там месяцем в ясном небе.
- Значит, и спорить не о чем, облава отпадает.
- Надо узнать пароль для входа. Местные друг друга знают, а будут в основном пришлые. Наверняка Корней и Савелий какое-нибудь словечко позаковыристее придумают. - Мелентьев взглянул в окно, поддернув брюки, присел на подоконник. - Как же нам Латышеву отыскать?
Зазвонил телефон. Костя снял трубку, сдерживая волнение, сказал:
- Слушаю.
Даша шла по Тверской вверх. Жара, мучившая город с неделю, спала, наступила нормальная для Москвы осень, люди вздохнули облегченно и вышли на улицу, которая недавно казалась им дорогой в ад. Казалось, вышли все, кому надо и кому не надо.
На Тверской царило радостное оживление, ярко поблескивали витрины, голоса звучали добрее, лошадиное ржание - звонче и радостнее, беспризорные мальчишки-папиросники не приставали настырно. Человек расчувствовался, даже на чертом придуманный мотор - так называли в те годы автомобили - смотрел без раздражения. Из булочной Филиппова вынесли лотки на улицу, пирожки и кренделя расхватывали, словно в жаркие дни маковой росинки в рот не брали.
На Тверской в этот день пахло пожухлой листвой, жареным мясом и французскими духами, сверкали глаза, дарились улыбки, щедро рассыпались комплименты. Поп-расстрига Митрий стоял у Елисеевского неприлично трезвый, держал в руке не чекушку, а чайную розу, не зыркал по карманам, а смотрел ясными глазами в небо, улыбаясь чему-то только ему понятному.
Даша красоты дня не замечала, брела, опустив голову, ни статью, ни походкой на себя не похожая, хмурилась, изредка останавливаясь, проводила пальцами по лицу, словно пыталась снять прилипшую паутину. Мужчины, обычно не сводившие с нее глаз, Дашу не замечали: они, мудрые, сильные и зоркие, как сороки, тянутся к яркому и блестящему.
Какой-то приказчик с изящно приклеенными ко лбу русыми завитками подарил Даше улыбку: видно, уж совсем она у него была лишняя. Девушка не ответила, приказчику своего подарка стало жаль, он взял Дашу под руку.
- Милочка, день-то какой...
Даша, думая о своем, по инерции сделала еще несколько шагов, затем повернулась, посмотрела незваному ухажеру в лицо.
- Ты чего? - отступил он. - Ишь, бикса... - договорить не успел Митрий сграбастал его за шиворот и пустил волчком в веселящийся поток прохожих. Парня закрутило, и нелепая фигура с набриолиненными кудряшками исчезла.
Митрий обнял Дашу, вложил ей в руку чайную розу и увлек в свой двор, который был для него и гостиной, и спальней. Далеко не безгрешное прошлое Митрия, его физическая сила делали апартаменты недоступными как для шпаны, так и для дворника. Митрий постелил на ящик, стоявший за огромными бочками, чистую мешковину, усадил Дашу, пристроился рядом, достал из необъятных карманов чекушку, соленый огурец и ломоть хлеба. При этом он поглядывал на девушку ненавязчиво, однако внимательно и неодобрительно качнул головой.
Даша отмерила пальцем половину, выпила из горлышка точно, крепкими зубами разрезала огурец, ела хлеб неторопливо. Митрий вылил в себя остатки, слизнул с ладони огурец и вздохнул.
- Ты уж поверь, Дашутка, - он никогда не называл ее Паненкой, - ты девчонка - все отдай и мало. Я жизнь прожил, а таких не встречал. Что темнее тучи? Коська Воронцов прознался о тебе и обидел?

![Николай Леонов - Один и без оружия [Трактир на Пятницкой. Агония]](https://cdn.my-library.info/books/143683/143683.jpg)