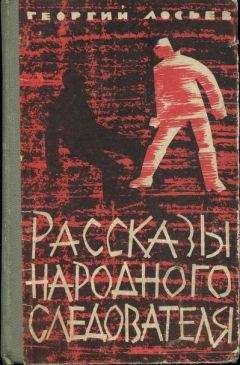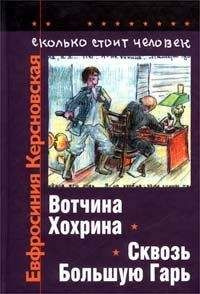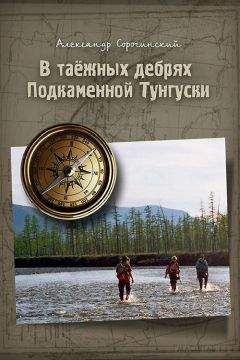И конокрадство пошло на убыль. Сократилась «дорожная преступность» и у нас. Но… в угрозыск продолжали поступать юмористические расписки Огонькова. Он, словно насмехаясь над нашей бурной деятельностью, продолжал ревизовать тракты и проселки.
В конце сентября, когда уже валился на землю березовый лист и дождевые лужи по утрам рассыпались под ногами стеклом, Игорь встретил меня сообщением:
– Ромка явился…
– ?..
– Ну, Ромка, цыган. Ну, который у нас кучерил…
Ромка-цыган был личностью примечательной.
В прошлом году мы с Игорем «нашли» Ромку на острове, затерявшемся среди необозримых камышей огромного Глухого озера… Там Ромка, бежавший из домзака, батрачил у местного самогонщика. Я взял его к себе кучером, добился замены отсидки принудработами, но Ромка сбежал, прихватив с собой пару новеньких хомутов.
– Где он, чертов сын?
– В конюшне сидит. Боится показаться вам…
– Давай его сюда!
Ромка, грязный и оборванный, прямо с порога повалился на колени…
– Подыхаю… Три дня не жрал… Прости, Христа ради! Возьми обратно!
– А хомуты?
– Отработаю! Вот те крест святой! Икона казанская, троеручица! Землю есть буду!
– Тебя что – из табора выгнали?
– А с баро не поладили…
– У своих заворовался?
– А нет… цыганку не поделили…
– Гм! Что с тобой, чертова перечница, делать? Ведь весной снова удерешь да еще и обворуешь опять?
– А помилуй, отец!
Мы были, наверное, одногодки, но глаза Ромки смотрели на меня детски-преданно.
– Игорь! У тебя завтрак с собой есть?
Игорь отдал мне три бутерброда.
– Ешь, сын полей!
Ромка поднялся, схватил бутерброды и, повернувшись к нам спиной, стал жадно есть.
Гейша, лежавшая под столом секретаря камеры, вскочила, подошла к окну и, положив передние лапы на подоконник, посмотрела на цыгана пристально и серьезно. Ромка отделил ей кусок, но Гейша не притронулась к пище и отошла на прежнее место.
Ромка обернулся По щекам его катились слезы…
Я взглянул на Игоря. И у этого глаза были влажными.
– А ты чего?
– Я же беспризорничал… Вы же знаете…
– Отставить мелодрамы! Рассказывай все. И не ври.
Исповедь «блудного сына» оказалась очень интересной.
Я позвонил Дьяконову, вызвал Шаркунова и у входа в коридор приказал поставить милиционера.
– Чтобы ни одна душа, Шаркунов! Понятно?
А когда пришел Дьяконов, я сказал:
– Огоньков базируется на цыганский табор, что бродяжит на татарских землях, под Тупицыном… Все лошади идут для сбыта цыганам. Ну-ка, повтори все сначала, Роман…
– Тебя, дружище, обратно в табор примут? – угощая Ромку папиросой, спросил Виктор Павлович.
– Голого – выгонят… А со «скамейкой» хорошей возьмет баро… Простит.
– Так что ж ты не украл? Мало лошадей, что ли?
– А не хочу воровать! – отрубил цыган. – Хватит!
– Что же ты хочешь?
– Примите в милицию… Чтобы мне провалиться, чтобы язык отсох!
– Ты бы уж сразу в прокуроры просился! – съязвил повеселевший Игорь. – Ишь, чего захотел!
Дьяконов обернулся к парню.
– Слушай, Желтовский! Иди сейчас ко мне на квартиру и скажи жене, чтобы срочно приготовила обед и прислала сюда с ребятишками. Крой!
После ухода Игоря я спросил Шаркунова:
– У тебя сейчас бесхозные лошади есть? Хорошие?
Шаркунов взглянул на меня одним глазом с веселым удивлением.
– А ведь верно, а?!
Так родилась идея.
А результаты ее претворения в жизнь сказались уже через десять дней: наконец-то состоялась первая встреча шаркуновских конников с огоньковцами. В том самом лесу, откуда был извлечен затворник Рутковский. Загрохотали винтовки, сбивая сучья, затинькали пули, громом ударили по лесу три бомбы…
Но бой не стал решающим. Огоньков поджег высокую сухую траву и ушел, оставив на месте одного своего убитым и двух лошадей, помеченных милицейскими пулями.
Бандиты подстрелили коня самого начальника милиции и легко ранили шаркуновского помощника.
Еще через неделю Шаркунов получил письмо. Оно было написано все тем же изящным женским почерком.
«Здравствуй, кривой! Спасибо за угощение. Только зря ты мою компанию так отпотчевал. Крови между нами не было, а было состязание. Теперь между нами кровь. Своего тебе я не прощу. Ведь ухлопать тебя я мог бы десять раз. Но не трогал. Слава о тебе в районе хорошая. Мужиков не обижаешь, белых бил. И я белых бил. Я бы побаловался и ушел сам, по-хорошему. Теперь не уйду, пока трех ваших для начала не подберу. А там видно будет, не взыщи, кривой».
В конце письма была приписка, прочитав которую, Шаркунов пришел в ярость:
«Поклон твоей жене, Анне Ефимовне. Она у тебя ласковая, обходительная, разговорчивая… Летом встретились мы на станции. Я ее довез до Святского на своем тарантасе. Много она, для первого знакомства, мне о твоих делах доложила: и сколько у тебя милиционеров, и какой храбрый, а который трусоватый, и кто подвержен выпивке, и сколько лошадей, и винтовок, и что ты против Огонькова, проклятого, замышляешь. Таким тружеником обрисовала, что мне прямо жаль стало – как тебя, израненного да кривого, на такую веселую службу хватает? Кланяйся Анне Ефимовне, а с тобой еще повидаемся. Огоньков Федор.»
Это уж, действительно, переходило всякие пределы.
Шаркунов рвал и метал.
Прочитав письмо, я вызвал жену Шаркунова и официально допросил «в качестве подозреваемой». Она, узнав истину, плакала и повторяла: «Боже мой! Такой милый, предупредительный интеллигентный молодой человек! Кто бы мог подумать! Отрекомендовался так культурно. Говорит – я уполномоченный кооперации из округа, пожалуйста, гражданка, довезу почти до Святского в своем экипаже. Мой-то не догадался лошадь за мной на станцию послать, хотя и то верно, что я, когда от мамы из Омска возвращалась, телеграмму уже с дороги дала… Опоздала телеграмма, а тут – попутчик. Такой культурный, вежливый и даже очень воспитанный».
На другой день после допроса Анна Ефимовна спешно выехала снова погостить к маме в Омск. Когда она усаживалась в милицейский ходок, я заметил, что лицо ее опухло от слез, а правый глаз был перевязан платочком и прикрыт цветастой шалью…
Отправив супругу, Шаркунов вошел ко мне в камеру нетвердыми шагами. От него явственно попахивало. Сев к столу, достал из коробки папиросу, но, повертев в пальцах, не закуривая, смял и выбросил. Сказал:
– Теперь мне с ним на земле места не хватит… Вот так, товарищ следователь.
Он ушел, звеня огромными драгунскими шпорами, и через день с оперативной группой надолго выехал а район…
В этот раз операция кончилась полным разгромом огоньковцев. Настигнув банду на небольшой заимке, где Огоньков устроил дележку с цыганскими главарями, Шаркунов окружил населье плотным кольцом винтовок.
Из девяти бандитов семь остались на месте. Попутно пристрелили пустившего в ход двустволку цыганского баро и выгнали из района весь табор.
Банда прекратила существование.
В районе наступило затишье: кончились дорожные ревизии и юмористические расписки. Но Дьяконов, узнав о разгроме банды, сомнительно покачал головой, а легко раненный в перестрелке Шаркунов ходил мрачный: среди убитых Огонькова не оказалось.
Бесследно исчез также наш Ромка. Цыгане утверждали, что Ромки не было ни в таборе, ни в банде…
Вскоре выпал снег и потянулись серенькие ноябрьские дни с вялыми снегопадами, их сменил морозный декабрь.
Деревни постепенно впадали в зимнюю спячку, и в райцентре наступила тишина, оживляемая лишь мелкими происшествиями. Тут всполошился товарищ Петухов и бросил лозунг: «Зима – время политграмоты».
Кроме литературных занятий, для райпартактива были учреждены обязательные кружки политграмоты. В это резиновое слово товарищ Петухов ухитрился влить столько содержания, что сейчас, спустя много лет, диву даешься, какие же крепкие нужно было иметь мозги, чтобы выдержать невообразимую петуховскую смесь из Марксова «Капитала», текущей политики, Кантова «дуализма» и христианской философии Гегеля…
Вскоре районные «деятели» озлились и пожаловались в край. Из крайкома прибыл инструктор, вдребезги разнес всю петуховскую «программу-максимум» и в конце своего выступления на бюро кратко сформулировал тезисы политучебы:
– Ленин. Экономические и идеологические основания для переустройства деревни. Правая оппозиция. Ленин.
– Ну, это нам – запросто! – оптимистично заявил товарищ Петухов. – Разобьем правых в пух!
– Разгромили атаманов, разогнали воевод!.. – подал реплику молчавший до сего Дьяконов.
Приезжий инструктор осведомился:
– А у вас в районе правые есть?
– Выявим, – бодро ответил Петухов. – Выявим и – того, разделаем под орех! Впрочем, думаю, у нас правых вообще не должно быть!