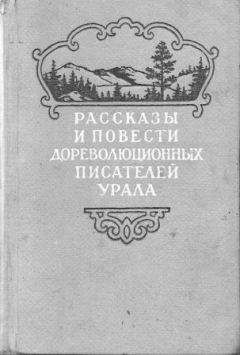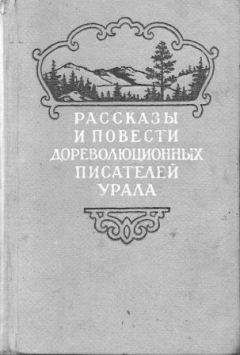- Даже обнимая секретаршу?
Его глаза напоминали небо в солнечный летний полдень отражающее васильковое поле. Так видишь, когда лежишь, распластавшись, легко и свободно, а небо смотрится в эту ширь и отражает васильковый цвет. И ветер. Теплый летний ветер... Его глаза... Как они изменились, словно накатывали на неё - вдруг выпирая по-бычьи. Изменчивые глаза...
- Хватит. Ты же умнее, чем хочешь казаться. Подумай лучше - что тебе надо купить. Завтра поедем по магазинам.
Она ненавидела это странное, похожее на сумасшествие действие. Они носились по Москве. Сидя в машине, она зачитывала список того - что кому требуется купить. Но едва выходили в очередной салон - осматривали все подряд. Вернее, она таскалась за ним по мужским отделам. Затем он покупал себе пару костюмов или ещё что-либо глобально дорогое, затем она намекала на то, что некая вещь мельком понравилась ей, но её как всегда не было в списке. Начинались препирательства. Анна обижалась и далее обходилась обычными джинсами и свитером. "Мне же нужен фрак, для того чтобы делать в нем деньги, а тебе зачем? Ты и так красива" - утверждал он свой эгоизм объяснениями. "...Теперь уж - точно незачем" - горько усмехнулась она про себя.
- Надоело, - она взглянула на него глазами полными слез. Бесполезно было пояснять, что она скоро умрет. Все, что касалось их двоих, никогда не доходило до него сразу.
Он, молча сунув ей деньги в карман, проголосовал такси.
Алина, незаметно смахнув нахлынувшие слезы, назвала водителю адрес своей редакции. Дома она больше находиться не могла.
Такси катило по знакомому маршруту. Это так печально: понимать, что помнишь наизусть каждую вывеску, витрину, каждый переулок, знаешь все о каждом доме, помнишь знакомых, живущих в этих местах... Помнить - со своим личностным оттенком переживаний событий, связанных с этой старомосковской архитектурой, и понимать, что память твоя скоро угаснет, как скользнувшие отблески закатного солнца. И никогда-никогда свет человеческого внимания не высветит ни барельефов, ни рельефов под точно таким же углом луча твоего личного зрения.
Но нельзя расплываться в бесформенный свет, ты же ещё жива!..
- ...Ночью обокрали музей музыкальных инструментов, - произнесла Алина, думая о том, что сходит с ума, - пропала скрипка Страдивари. Цена от трехсот тысяч долларов до миллиона - смотря кому продать. Боюсь, у меня отнимут эту тему. Я ведь никогда не вела детективного журналистского расследования. Прав Фома - "все о высоком..." Но ведь - пересекается и низшее, и высшее в этой жизни...
- Страдивари... - усмехнулась стажерка. - О чем вы, когда люди в городе гибнут, словно у нас война. Сто убийств в месяц! Вчера в Видном, взяли группу цыган, убивавших людей в приличной одежде. Ждали на станции кому тропой по безлюдным местам идти - выслеживали и убивали. Только за вчерашний день они убили шесть человек сошедших с электрички. Это же надо так обнаглеть от равнодушия милиции, чтобы столько в день убивать!.. А вы о высоком!.. Да от такой жизни - хоть день на Багамах!..
- Увидеть Париж и умереть? - Губы Алины скривились в горькой усмешкой.
- Да хотя бы так. Но умирать, конечно, не обязательно.
Алина, даже не кивнув новоявленной сотруднице на её "необязательно", задумчиво пошла в кабинет к главному редактору отдела культуры.
Во многих редакциях были знакомы с Алиной. Но это не значило, что она отличалась журналистской активностью. Она принадлежала к той когорте гипнотически доверявшихся понятиям любви, брака и бабьей судьбы женщин, что в современной Европе напоминают камикадзе, и лишь, чтобы совсем не терять чувства того, что время идет, иногда писала статьи.
Красивая, яркая блондинка, от природы своей из тех, которых "выбирают джентльмены" - по заявлению одной телевизионной девчушки, - Алина из тех, кого могли бы запечатлеть в "Плейбое". Из тех, кто мог бы - получить в расчетливом замужестве, на зависть бабам и старым девам, головокружительную жизнь в Америке или Париже. Не говоря уже о её погибших способностях почти ко всем видам искусства... - так считали те же бабы. Алина при всей своей незаурядной внешности, не то что бы не имела характера, а имела такое терпение, что обстоятельства могли гнуть её, словно из прута дугу невероятно долго. Врожденная неуверенность в себе, толкали Алину на поступки отказа от всего того, за что бы ухватились другие.
Она вышла замуж по любви, долго не веря, что её тоже можно любить, хотя влюблялись в неё часто, но как-то казалось ей, спеша, словно перебирая кандидатуры, а не как одну единственную. Вышла - и как пропала - медленно и незаметно, попав под власть избалованного мужа. Они жили неплохо, можно сказать "слишком жирно" для большинства, мучающегося от безденежья, но жили все-таки неплохо - именно материально. Все остальные Алинины радости заключались в приятии и понимании его радостей. Будоражившая воображение мужского пола шикарная леди-журналистка - легко превратилась в эхо, тень, второй план жизни одного-единственного, мало кому известного среди её былых друзей-приятелей, мужчины. Они всегда отдыхали вроде бы вместе - в барах, в казино, играя в рулетку, на бильярде, путешествуя по странам... но когда ей хотелось в Египет, ему хотелось в Лондон, когда ей хотелось на выставку ему в бильярдную. И она всегда уступала. Всегда. Разве что книги читала совсем иные.
Временами она понимала это, понимала - что лично уже её нет. Была когда-то и вдруг быть перестала. И тогда вскидывала голову, шла... Шла в магазин в поисках его любимого сыра и, заодно, заходила в редакцию. Так появлялась она: то здесь то там, раз в три месяца, выслушивала пожелания, приносила статейку, которую успевала накропать урывками между готовкой ужина, стиркой, и обязательным вечерним выходом в свет местных бизнесменов, обычно молча кучкующихся в бильярдной, или выяснявших отношения только при помощи показательно классных карамболей или "дураков". Там ей приходилось играть одновременно две роли - европейской женщины играющей с мужчинами на равных и восточной - не заходящей вперед своего мужчины и не говорящей, когда её не спрашивают. С трудом научившись молчать, она молча принимала даже комплименты, которых было все меньше и меньше. И так как бы украв время, собрав его по минуткам, словно соткав рубашку, собрав с миру по нитке, она выдавала нечто в виде статейки и исчезала. Через полгода могла появиться перед редактором с таким видом, как будто виделись с ним вчера. И не было ничего удивительного в том что, глядя на неё с сомнением, говорил главный редактор:
- Какая скрипочка! Тут такое твориться! Народ озверел от зрелищ. Скрипочка его не удивит, хоть и Страдивари. Ладно. Мы можем дать только короткую информацию о твоей скрипочке.
- Но здесь дело темное! - с пылом продолжала Алина так, словно всегда была в гуще текущих событий, и они уже стали её личной жизнью. - Милиция принесла свои извинения за то, что их сотрудник не среагировал на сработавшую сигнализацию! Он, видите ли, решил, что её ни с того ни с сего замкнуло, и продолжал спать! А от чего это он спал таким глубоким сном?! Дело ещё толком не завели, а его уже уволили! У меня есть подозрение, что в ограблении замешаны наши доблестные правоохранительные органы.
- Быть может, - устало улыбнулся главный редактор отдела культуры. Но вы понимаете, что все равно оплату времени журналистского расследования вам никто не подпишет. Да и не вытянешь ты на народный детектив. Проще писать надо. А не можешь - тогда короче. Так что ищи новые сенсации.
"Новые сенсации! Новые сенсации... Жизнь мелькает, как картинки в калейдоскопе - разрозненные, невразумительные вспышки чужой жизни. А я... где же моя жизнь? Я - ведь, умираю! Люди!.." - Алина вышла в коридор и снова дошла до курилки.
- Вот смотри, что выбираешь: командировку по зонам и тюрьмам или в Париж? - спрашивал Фома молодого журналиста.
- А что в Париж кого-то посылают? - встрепенулся долговязый парень.
- Слушай, Фома, когда же ты уймешься? Так и хочется прокатить тебя по зонам.
- По эрогенным?! - усмехнулся новичок.
Она заметила, как Фома смутился и, отвернувшись, пробормотал:
- О чем же вы там писать-то будете?
- Об искусстве, - еле сдерживая раздражение, процедила сквозь зубы Алина, думая: "Хоть что-то делать. Хоть чем-то занять себя. Всю! Без остатка! Лишь бы не думать, не думать о себе!"
- Живопись за колючей проволокой, - откликнулся молодой журналист, - А чего, они, наверняка, там чего-то малюют.
- А... да ладно вам, пижоны, - махнул рукой Фома, неожиданно обидевшись на их шуточки, и ушел не докурив.
"Я сейчас сломаюсь! Сломаюсь! Упаду и замолкну навсегда!" - отчаянно пульсировало в ней. Но она шла домой, гордо задрав голову, и даже не спотыкаясь.
- Вот ещё - выдумала! Кто сказал, что у тебя рак?! Кто это тебе сказал?! Да об этом не говорят больным! - Кирилл смотрел на нее, сидевшую перед ним опустив голову. Волосы её бледным каскадом струились и струили несчастье. Он чувствовал, что перед ним надломленное существо, которое из последних сил пытается распрямится, стать той, которая вспыхивала в его снах, мечтах многие годы - чем-то утверждающим, вдохновляющим, вечным. Почему же теперь она вызывала лишь его сожаление?