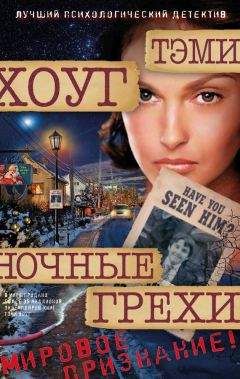на звонок. Я перевернула телефон и поняла, что пришло сообщение на голосовую почту. Я поднесла телефон к уху.
Вот оно – последнее мгновение. Дети смотрят телевизор. Солнце село. Задний двор превратился в черный прямоугольник. Я смотрю на себя… я смотрю на нее.
Она поворачивает переключатель. Духовка включается. Дальняя подсветка, словно сцена в театре, волна горячего воздуха. Она берет телефон. Она ничего не знает. Она вряд ли о чем-то догадывается. Кожа у нее чистая, без морщин. Ей едва за тридцать. Не красавица. Ничего особенного. Но пока что у нее есть это… это незнание, от этого мгновения и до бесконечности оно принадлежит ей.
После гудка сначала ничего не было слышно, а потом прозвучал глубокий вдох, даже скорее преддверие вздоха. А потом послышались слова. Это скорее даже были не слова, а какие-то непонятные частицы, что-то, направленное на изменение строения моей вселенной – пластикового пакета с курицей у меня в руке, плиты и раковины, радио приемника.
Говорит Дэвид Холмс. Я муж Ванессы Холмс. Я подумал, что вам стоит узнать…
Судорожный звук – словно человек сглотнул слюну, по телефону не разберешь, что там происходит с жидкостями в чужом теле.
Ваш муж… Джейк, Джейк Стивенсон… спит с моей женой. Он… я узнал об этом сегодня. Подумал, что стоит и вам узнать.
Мужчина повторил эти слова дважды: он думал, что мне стоит узнать. Он произнес это так – даже при том, что его голос дрожал и срывался, как у подростка, то взлетая к фальцету, то опускаясь до баска, – словно считал, что это очень важно. Казалось, он все продумал, будто знал, что такие знания очень важны для супружества, что это правильно. Он очень старательно произносил все имена и фамилии, словно хотел, чтобы все прозвучало официально. Голос его звучал серьезно, по-профессорски. Может быть, он и был профессором, а у меня всегда была слабость: я любила слушать ученых людей и верила тому, что они говорят. Было время, когда я сама немного училась искусству такой речи.
Поэтому, услышав эти слова, я кивнула и положила курицу на стол.
Я представила себе, как отреагировала бы на такую новость женщина в кино. Она бы задрожала. Я вытянула руку, чтобы посмотреть, дрожит она или нет. Но легкий тремор был свойствен моим пальцам всегда. Они едва заметно двигались – каждый сам по себе. Казалось, что передо мной при свете кухонных ламп шевелятся разные существа.
В соседней комнате работал телевизор как ни в чем не бывало. Как-то в детстве я ужасно расстроилась, когда узнала, что телевизор не может меня защитить: я привыкла считать его разумным существом, способным ощущать опасность. А потом я как-то раз увидела передачу с реконструкцией убийства, и там женщина лежала на диване, а над ее головой бормотал телевизор…
– Пожалуйста, мамочка, можно мне попить!
Мы научили детей говорить «пожалуйста», а входить на кухню и наливать себе воду из пластикового кувшина, стоящего на небольшой высоте, не научили. Да, мы этого не сделали, а винили во всем детей, и каждый раз, когда они звали нас, своих слуг, и просили попить, мы делали большие глаза. Когда я была с детьми одна, исполнять роль прислуги мне было легче. Я автоматически выполняла все нужные движения – от шкафчика с посудой до раковины, от рако вины в холл, к мальчикам, просящим пить. Некоторые с тоской пишут о том, что женщины, погрузившись в материнство с головой, теряют себя, но разве мало всякого такого, в чем мы готовы потеряться? У меня никогда не вызывала возражений работа по дому – взять, отнести, сделать что-то руками.
Я начала готовить ужин. Готовить я умела всего несколько блюд, по большей части самых простых. У меня имелась целая полка книг кулинарных рецептов, как у большинства хозяек, и время от времени я что-то готовила по рецептам – то обуреваемая новогодней волной энтузиазма, то после того, как то или иное блюдо мне привиделось во сне. Но как бы просты ни были эти рецепты, в дальнейшем я ими почти не пользовалась. Но вот рецепт, к которому я привязалась: куриную грудку порезать на кусочки и каждый обмакнуть в миску с мукой, приправленной специями. Мне даже приправлять муку специями нравилось. Просто удивительно было смотреть, как соль и перец смешиваются с белой мукой и придают курятине особенный вкус. Приготовление пищи всегда казалось мне загадочным, искусством невидимого.
Я резала курятину и замечала, что она стала какой-то другой. Волокна мякоти изменились, стали более зернистыми, а поверхность грудки без кожицы стала почти прозрачной. «Я женщина, у мужа которой роман на стороне», – мысленно сказала я себе, как будто эти слова могли каким-то образом повлиять на реальность. Потом я произнесла их вслух. Мне захотелось ощутить вкус этой фразы языком, проговорить эти слова губами в определенном ритме. Я произнесла имя женщины.
Ванесса. Когда я ее впервые увидела, она смеялась на рождественской вечеринке. Потом мы с ней пожали друг другу руки на корпоративе, и потом еще я видела ее несколько раз. Подтянутая, с прекрасной осанкой, она хлопала в ладоши. Очень аккуратный пиджак. Пряди волос убраны за уши. Где, интересно, она покупала эти пиджаки? Наверное, у нее имелся личный хозяин бутика, демонстрировавший ей стойки с почти одинаковыми пиджаками и описывавший мельчайшие различия в их крое. Ванесса Холмс. Вздернутые брови, тонко выщипанные. Волосы, собранные в хвостик, как у маленького зверька.
Я заметила, что меня подташнивает. Так замечаешь, что с полки упала книга, – рассеянно, отстраненно. Когда я рожала Пэдди, акушерка предложила мне петидин и сказала, что боль это лекарство не снимет, но поможет меньше думать о ней. «Вы боль чувствовать будете, – пояснила акушерка, – но она ничего не будет значить для вас». Эта боль, отделенная от меня, очень меня привлекала, но не время было принимать лекарства, потому что в это самое время Пэдди родился и мне не пришлось делать выбор.
Порезав курятину, я выжала на нее сок целого лимона – этому меня научила мать. Моя мать готовить не любила, но кое-какие секреты знала. Она знала, как сжать в кулаке толстую желтую кожицу лимона, как вонзить в нее ногти и сдавить изо всех сил. Я, выжимая лимонный сок, заметила – снова как бы в небольшом отдалении от себя, – что вдоль моей груди словно бы прошелестел легкий ветерок. Я сжала лимон