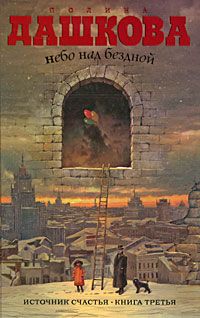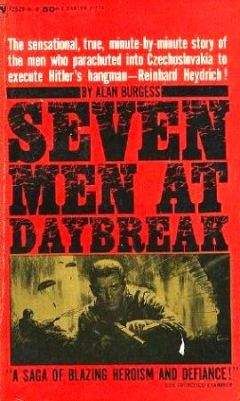– Не то слово.
– Ты когда-нибудь раньше видел его таким?
– Никогда. Его как будто подменили. Надеюсь, это пройдет.
– По-моему, он стал невменяемым после выздоровления старика.
– Да, мне тоже так кажется. Его взбесило, что ты вколола единственную дозу Федору Федоровичу, а не ему. Скажи, у тебя правда больше нет препарата?
Соня отрицательно помотала головой. Болтанка усилилась. Самолет подкинуло, швырнуло вниз. Петр Борисович в очередной раз скатился с дивана, вырвался из рук охранников и бросился к кабине пилота.
– Какого черта?! Мы падаем! Вы что, не понимаете? Падаем!
Савельев мгновенно вскочил, подхватил его, придерживая за плечи, повел назад, к дивану.
– Все, все, Петр Борисович, успокойтесь, мы летим, вовсе не собираемся падать. Зачем нам падать? Нас просто слегка потряхивает, как на американских горках. Кстати, знаете, во всем мире этот аттракцион называют русскими горками. Так же как салат оливье только у нас оливье, а в Европе он русский. Интересно, почему? Вы никогда не задумывались об этом?
– Хватит мне зубы заговаривать! Падаем!
– Ну, если вы настаиваете, тогда, конечно, надо помолиться. Петр Борисович, давайте помолимся. Как хотите, про себя? Или вместе, вслух?
– Ты сбрендил, Савельев? Что ты несешь?
– Ну да, я забыл, вы атеист. Извините. Что же делать атеисту в критическую минуту, между жизнью и смертью, когда верующий человек молится? Атеист тоже человек.
– Твою мать! – заорал Петр Борисович.
– А, вот вы и ответили. Когда верующий молится, атеист матерится, – невозмутимо продолжал Савельев.
«Он сошел с ума, – подумала Соня, – Кольт уволит его».
– Внимание, мы идем на посадку, – хрипло сообщил в микрофон летчик, – прошу всех занять свои места и пристегнуться.
– Петр Борисович, давайте сядем. Минуточку, я вот тут пряжку защелкну. Не туго? А скажите, вы на американских горках катались когда-нибудь?
– Нет! Отстань!
– Теперь можете считать, что покатались. Впечатляет, да?
Самолет нырнул в толщу облаков. Исчезли звезды. Болтанка стала невыносимой. Один из охранников не выдержал, бросился к туалету. Даже стюардессам было нехорошо. Они сидели в своих узких креслах, по обе стороны кабины, туго пристегнутые, бледные, неподвижные, как куклы. Соня выключила ноутбук, убрала в сумку. В салоне погас свет, затихли голоса. За окном клубилась непроглядная мгла.
Соне захотелось, чтобы вернулся Дима и сел рядом. Впервые после чудесного выздоровления Федора Федоровича ей стало тоскливо и страшно. Самолет снижался отчаянными резкими рывками, продирался сквозь облачные слои, дрожал от порывов ветра, заваливался вправо, влево так сильно, что казалось, сейчас перевернется.
«Куда, зачем я лечу? – думала Соня, и при каждом очередном рывке у нее все внутри сжималось и леденело. – Меня ждут груды костей и черепов, выкопанных из твердой степной земли. Мне предстоит изучать останки людей, живших много веков назад, искать цисты древнего паразита и следы воздействия их на истлевшие ткани. Сейчас, зимой, раскопки не ведутся, но для моей работы подготовлен богатый материал. До весны костей и черепов хватит. Станет тепло, накопают еще, сколько угодно».
Самолет вдруг взметнулся вверх. Соня вздрогнула, но глаз не открыла. Кто-то быстро прошел мимо нее, к кабине. Зазвучал спокойный, усиленный микрофоном голос стюардессы:
– Не волнуйтесь, мы скоро приземлимся. Погодные условия очень сложные. Ветер. Метель. Петр Борисович, слышите меня? Все хорошо, осталось потерпеть минут двадцать.
Самолет опять рванулся вниз, накренился. У Сони перехватило дыхание, заложило уши, заболела голова, так внезапно и сильно, что брызнули слезы. В соседнем кресле возник Дима. Соня его не увидела, только почувствовала, как нежно он взял ее за руку.
– Замерзла? У тебя пальцы ледяные.
Он достал откуда-то плед, накрыл ее и спросил, наклонившись совсем близко:
– Не тошнит тебя? У меня конфетка есть. Хочешь?
– Нет. Спасибо. Кольт угомонился?
– Да. Заснул, бедняга.
– Значит, ты можешь побыть со мной, пока мы не сядем?
– Я бы вообще не уходил от тебя, никогда и никуда.
– Что?
Она вполне могла ослышаться, у нее заложило уши. Он не произнес больше ни слова, сидел рядом, держал ее руку, пока самолет не коснулся земли.
* * *
Москва, 1922
Последний вечер и ночь перед отъездом Федор провел на Второй Тверской. Он пришел поздно. Дверь открыл Михаил Владимирович.
– У меня голос сел, – пожаловался он сиплым шепотом, – только что прочитал «Сказку о царе Салтане», от начала до конца. Миша стал плохо засыпать.
Федор сразу понял, что Тани дома нет. Хотел спросить, где она, но не решился, вместо этого спросил, как чувствует себя Авдотья Борисовна.
Няня хворала, вторую неделю почти не вставала с постели.
– Плохо дело, – сказал Михаил Владимирович, – ничего не болит у нее, но от еды отказывается, только чаю иногда попьет и дремлет. Вчера удалось наконец вызвать батюшку. Исповедалась, причастилась. Вот сейчас зашел к ней, пробовал расшевелить, покормить. Она проснулась, по голове меня погладила и говорит: обещай, Миша, что свое проклятое зелье ты мне вливать не станешь, позволишь помереть спокойно.
– Проклятое зелье?
– Так она называет препарат. Она как будто даже стала побаиваться меня, не дает себя осмотреть. Подпускает к себе только Таню.
Федор открыл рот, чтобы спросить, где же все-таки Таня, но Михаил Владимирович вдруг замер, приложил палец к губам, напряженно прислушиваясь.
– Как бы Миша не проснулся, – прошептал он, – Маргошка, видишь ли, взяла моду ночевать у него под одеялом. Обычно спит спокойно до утра, но сегодня унюхала сушеные яблоки и весь день пыталась к ним подобраться. Я убрал подальше, в буфет. Нет, вроде бы тихо.
Что-то загрохотало.
– Марго! – простонал профессор и бросился в гостиную.
На полу валялось несколько разбитых чашек. Медленно покачивалась верхняя дверца буфета.
– Вылезай, чудовище!
В ответ ни звука.
– Считаю до трех. Учти, я знаю, где ты. Если сию минуту не вылезешь, запру тебя в клетке. Один, два…
Между дверцами показалась бежевая обезьянья мордочка в золотистой гриве. Мармозетка сидела на верхней буфетной полке и что-то быстро жевала.
– Ждешь, когда скажу три? – сурово спросил профессор. – Обжора, ты и так их лопала, сколько хотела. Не можешь успокоиться, пока все не доешь? Тебе сушеные яблоки дороже свободы?
Марго перестала жевать, вытянула губы трубочкой, помотала головой, элегантно спрыгнула профессору на плечо, прижалась к его шее, жалобно запищала. В кулачке она держала ломтик яблока и пыталась запихнуть его профессору в рот.
– Отстань, лицемерка, – сказал Михаил Владимирович и вышел с пристыженной Марго на плече.
Федор отправился на кухню, за веником и совком, собрал осколки. Через минуту профессор вернулся, сел в кресло. Обезьянка перебралась с плеча на колени, ткнулась носом ему в руку.
– Ладно, все, – он потрепал золотистую гривку, – твое счастье, что Миша не проснулся.
Обезьянка подпрыгнула, захлопала в ладоши. Лампа подсвечивала золотистую шелковую гривку, большие карие глаза сияли.
– Проклятое зелье? – спросил Федор.
– Да. Эффект поразительный. Мне принесли полутрупик. А теперь посмотри на нее. Я не встречал более жизнерадостного, ласкового и разумного существа.
Марго всплеснула лапами, похлопала себя по груди. Длинные мягкие губы растянулись в гордой улыбке.
– Можно подумать, ты понимаешь, о чем мы говорим, – обратился к ней Федор.
Марго закивала в ответ, скорчила смешную рожицу, издала тонкий мелодичный звук.
– Она все понимает. Настолько, что прячется от товарища Гречко, не показывается, когда он приходит, – сказал профессор, – впрочем, он давно уж догадался.
– На то он и оракул, – усмехнулся Федор, – думаете, это опасно?
– Я устал бояться, Феденька. Я вообще очень устал. У меня большие проблемы с Андрюшей.
– Что случилось?
– Все то же, – профессор сморщился и махнул рукой, – в среду явился пьяный. Видишь ли, учиться больше не желает, поскольку в советской школе все равно ничему не учат. Решил сам зарабатывать на жизнь. Малюет афиши и декорации для какого-то театра. Связался с актеркой.
– Театральный художник – хорошая профессия, – неуверенно заметил Федор, – поработает, потом поступит во Вхутемас. Да и актерка тоже не беда. Андрюше семнадцать. Первая любовь.
– Брось, Федя, актерке за тридцать. Она замужем, Андрюша для нее игрушка, собачонка. А главное, он пьет, понимаешь, от него слишком часто пахнет спиртным.
– Давайте сводим его на экскурсию в дом скорби, пусть полюбуется на алкогольную деменцию и белую горячку, – предложил Федор.
– Таня пыталась. Он не хочет. Она однажды уже водила его в морг, чтобы привести в чувство. Помнишь, пару лет назад он впал в кошмарный нигилизм, хамил всем, даже няне?