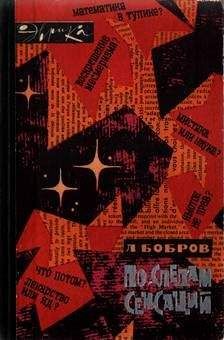Петров пришел в весьма возбужденное состояние. - Две тысячи ! Благоприятная возможность, но две тысячи долларов . . . . На целую тысячу долларов больше. В настоящий момент я не вижу, где можно раздобыть больше тысячи долларов.
Он подумал в течение одной - двух секунд. - Поддерживайте контакт с Джорджем. Это слишком хороший шанс, чтобы его упустить.
До конца ленча Петров неоднократно возвращался к этой теме и его последние слова перед моим отлетом в Сидней были опять о том же: Было бы хорошо бы, если бы это дело удалось.
Поскольку отношения у нас с Петровым складывались так благоприятно, в какой-то момент я решил задать ему тот самый глупый вопрос из списка Службы безопасности по поводу сравнения условий лечения в австралийских и советских больницах.
- Владимир, как вам понравились условия лечения в нашей больнице?
- Хороши, очень хороши.
- По вашему мнению советские больницы лучше или хуже?
Какую-то долю секунды Владимир помедлил. Затем произнес с застывшим лицом и отсутствующим выражением во взгляде: Лучше.
Я вспоминаю этот эпизод только потому, что видел, что Петров говорил неправду. То, что он говорил неправду в этом конкретном эпизоде, не имело особого значения. Важно было именно это отсутствующее выражение во взгляде, которое его выдало.
Почти с самых наших первых встреч с Петровым я пытался обнаружить у него какие-то манеры и оттенки поведения, которые бы свидетельствовали о его истинных мыслях и настроении - нечаянный неосознанный жест, движение, порыв, которые иногда так много значат. В течение многих месяцев я не находил в нем ничего такого, что выдавало бы его истинное настроение. Он что-то замышлял, что-то лгал, но выражение его лица обычно оставалось неизменным. Лицо не меняло выражения, и я не замечал в нем каких-либо физических проявлений, которые показывали бы, что он возмущен, удивлен или раздражен. Оно всегда сохраняло бесстрастное выражение .
Затем постепенно я стал замечать, что, когда он что-то замышляет или лжет, его выдают его глаза - это отсутствующее выражение во взгляде было одним из таких проявлений. Обычно ничто другое не менялось - выдавали его только глаза.
Я вернулся из Канберры с ответами на все вопросы, которые интересовали Службу безопасности, но это ничего не добавило к тому, что мне было известно уже задолго до этого.
Прошло около недели прежде, чем мы снова встретились с Петровым. Он приехал в Сидней со вторым секретарем Кислицыным, и оба явились ко мне в офис. Почти сразу же стало ясно, что Кислицын прибыл для того, чтобы перепроверить информацию о состоянии здоровья Петрова. Очевидно, это приобрело для посольства большое значение.
Ясно стало и то, что Петров в присутствии Кислицына ведет себя неестественно и гнет какую-то свою линию. С трагическим выражением на лице он говорил о неблагоприятном для него стечении обстоятельств ввиду того, что состояние здоровья не позволяет ему сесть на самолет и отправиться домой на Родину. В то же время он на все лады жаловался по поводу того, как тяжело жить с такой болезнью, как у него. Я демонстративно проявлял сочувствие к нему и поддерживал его версию о плохом состоянии здоровья, считая необходимым помочь Петрову в проведении избранной им линии поведения.
Я заметил, что вначале все это не произвело на Кислицына особого впечатления, однако затем по ходу беседы его отношение стало меняться и под конец он тоже проникся сочувствием к Петрову.
- Не расстраивайтесь, Владимир Михайлович, - сказал он, - здоровье должно восстановиться. И не беспокойтесь из-за самолета. Когда поправитесь, тогда и улетите. Но, главное - надо поправиться.
Я понял, что мои подозрения по поводу каких-то сложностей в отношениях Петрова со своим начальством в посольстве и в Москве были не напрасны. Я также понял, что слова Кислицына надо трактовать так, что Петров выиграл первый раунд в борьбе с послом в своем противодействии указанию об отъезде на Родину. С этого момента у Петрова стало происходить постепенное улучшение зрения.
Примерно в это же время я получил письмо, направленное в мой офис, в котором находился запечатанный конверт с просьбой ко мне передать его в советское посольство. Я без колебаний вскрыл его и обнаружил внутри длинное, написанное мелким почерком письмо, которое подписал Джон Готтштейн с адресом на почтовый ящик 92 в почтовом отделении в городе Мэрриквилл.
Готтштейн писал, что он по профессии психолог и случайно получил доступ к переписке между некими лицами из Австралии и американским армейским капитаном на Гаваях. По-видимому этот капитан был завсегдатаем публичного дома, который содержала женщина - агент американской секретной службы. Капитан был человеком либеральных политических взглядов и с симпатией относился к социалистическим идеям. Готтштейн писал, что сочетание у этого капитана интереса к сексу с его социалистической ориентацией может представить интерес для советских агентов на Гаваях. Готтштейн заявил в письме, что если бы советское посольство снабдило его порнографическими фотографиями, то он смог бы заинтересовать ими капитана и взять его под свой контроль. Он просил денег для финансирования изложенной им операции и вознаграждения за свои услуги. В качестве демонстрации своих оперативных возможностей он сообщал фамилии пяти известных коммунистов.
Петрова в городе не было, так что у Службы безопасности было достаточно времени, чтобы сфотографировать письмо и вернуть его мне.
Когда Петров ознакомился с письмом, он сразу же сказал: Все это ерунда. Это дело рук Службы безопасности. Отошлите письмо обратно к Готтштейну.
В присутствии Петрова я написал Готтштейну ответ следующего содержания: Получил Ваше письмо с просьбой переправить его в советское посольство. Хочу поставить Вас в известность о том, что не могу его туда передать, так как у меня нет контактов с посольством, хотя по роду моей профессиональной деятельности я посещаю некоторых его сотрудников, которых привлекает мое знание русского языка. Я расцениваю направление Вами в мой адрес подобного письма как весьма безответственную акцию и, в случае её повторения, буду вынужден поставить в известность соответствующие органы.
Вложив записку с таким текстом вместе с полученным письмом в конверт, я отправил его Готтштейну.
Однако история на этом не закончилась. Несколько дней спустя я получил другое написанное от руки письмо с тем же обратным адресом и подписанное Джоном Готтштейном. В нем утверждалось, что первое полученное мною письмо судя по всему было поддельным, и высказывались комментарии по поводу того мастерства, с каким был воспроизведен его почерк.
Через несколько дней после визита ко мне Петрова и Кислицына - это было 17 июля - доктор Бекетт поинтересовался у меня, как чувствует себя Петров. Он сказал, что его случай весьма любопытный, и он хотел бы встретиться с ним в следующий его приезд в Сидней.
На следующей встрече с Петровым я договорился с ним о визите к Бекету, и когда 23 июля он вновь прибыл в Сидней, я, как обычно, отправился туда вместе с ним. Моя роль заключалась в том, чтобы присутствовать во время медосмотра Петрова. На этот раз Бекет заявил, что в моем присутствии во время осмотра нет особой необходимости и, к моему удивлению, предложил, чтобы я отправился прогуляться или по моим делам. Я вышел из офиса в недоумении: В чем дело? - спрашивал я себя. Бекетт явно хотел избавиться от меня и, по-видимому, ему нужно было поговорить с Петровым один на один. Какое дело мог он обсуждать с Петровым?
Возвращаясь обратно через сорок пять минут, я все ещё продолжал задавать себе подобные вопросы. Петров уже вышел из врачебного кабинета и выглядел взволнованным. Таким выбитым из колеи я видел его впервые. Едва сев в мою машину, он буквально взорвался. - Это сукин сын. Его следует опасаться. Он связан со Службой безопасности.
- Почему? Что случилось?
- Он осмотрел меня как обычно, а затем спросил, как мне нравится Австралия. Я ответил, что это приятная страна, в которой много еды и хороших напитков. Затем он сообщил, что узнал из письма доктора Лоджа, что вскоре я уезжаю в Москву. А потом сказал, что если мне нравится эта страна, так почему бы мне здесь не остаться. Мол, бывший чешский консул остался и правильно сделал.
- Боже праведный, неужели он сказал все это?
- Именно это он и сказал. Более того, он заявил, что знает одного человека из Службы безопасности, который мог бы помочь мне, если бы я проявил желание остаться.
- Черт побери, и что же вы ему ответили?
- Я ответил ему, что не останусь потому, что не могу сделать этого. Мой долг возвратиться на родину, когда меня вызывают. Он, конечно, странный человек этот Бекет. Было бы неплохо встретиться с ним снова и вытянуть из него побольше информации.
Грубая работа Службы становилась просто опасной. Это был невероятно глупый риск, ставящий под угрозу все, над чем я работал. Кроме того и я сам подвергался прямой опасности, так как вполне мог стать объектом мести, если бы Петров пришел к выводу - а он легко мог прийти к такому выводу - что я агент Службы безопасности. Он знал, что мы с Бекетом совместно используем одну и ту же приемную для пациентов, и только на одном этом основании мог логично предположить, что у нас с ним близкие отношения. Именно я привел Петрова к Бекету и, следовательно, в глазах Петрова я поручался за его надежность. Петров был бы более чем прав, посчитав именно меня стоящим за действиями Бекета.