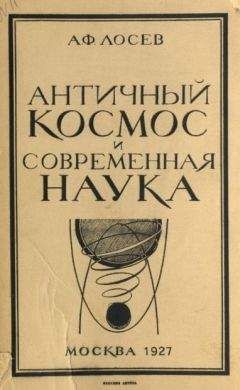— От нее?
— Нет, от нас. Но она чувствовала.
— А в этом отрицательном, даже враждебном отношении Курилова не было ничего личного?
— Что вы! Он сто раз говорил Алексею: как ты мог связаться с такой женщиной!
— Ну, если сто раз говорил… — усмехнулся Мазин.
— Вы сомневаетесь?
— Уж больно он разговорчив, ваш друг Курилов. И не всегда говорит то, что соответствует действительности, и, увы, не всегда то, что думает.
— Не понимаю, что вам пришло в голову.
— «Детективщина одолевает…» Мухина вы рисуете человеком открытым, чуждым интригам. Зачем же им с Куриловым организовывать, простите, ваше свидание? Особенно эгоцентричному Курилову вмешиваться в отношения, внушавшие, по вашим словам, ему неприязнь, почти отвращение? Почему он не намекнул даже на просьбу Мухина, не позлословил на его счет хотя бы? Выходит, обоим зачем-то потребовалась ваша встреча. Зачем? Почему обоим? Мухин, по показаниям Курилова, подозревал Татьяну в неверности…
— Послушайте, — прервал Витковский возмущенно. — Вы совсем запутались, наверняка запугали Курилова, истолковали его слова по-своему и ничего не понимаете в наших отношениях!
— Вы правы лишь частично. Я в самом деле не все понимаю. Но знаю я уже больше, чем вы.
Ему не хотелось говорить Витковскому о подлой расчетливости его бывших друзей. И он не знал еще, каким образом оборвала она жизнь Татьяны.
* * *
И незаконченный поиск вновь привел Мазина к Клавдии Ивановне Сибирьковой, но на этот раз не в кафе «Аист», а в новый кооперативный дом-башню, в весьма скромную однокомнатную квартиру.
Входя в подъезд, Игорь Николаевич отнюдь не был уверен, что найдет здесь ответ на свой вопрос, но, как сказал он сам однажды, когда человек много работает, ему начинает везти.
Мазин поднялся в лифте на шестой этаж и позвонил.
Открыл очень похожий на мать, высокий и симпатичный парень в джинсах, спортивном свитере и очках. Глядя на парня, можно было отчасти представить Сибирькову, какой была она в те годы, когда дружила с Татьяной Гусевой.
— Я бы хотел повидать Клавдию Ивановну.
Парень отодвинулся, освобождая дорогу.
— Заходите. Мама сейчас придет. Подождите немного, пожалуйста. Вы по делу?
— Да. Я работаю в милиции.
— А…
И симпатичное лицо парня омрачилось.
Мазин прошел в комнату, заваленную книгами, чертежами и приборами, и удивился, так как жилище Сибирьковой представлял иначе.
— Вы студент? Как вас зовут? — спросил он парня.
— Саша.
— А меня Игорь Николаевич. Можно присесть?
— Конечно. Вы уже были у мамы?
— Да, мы беседовали.
Он потрогал очки:
— В этом кафе вечные неприятности. Но мама честный человек. Ей нужно было давно уйти оттуда.
— Разве честный человек не может работать в кафе?
— Может. Но никто не верит, что она живет на зарплату. Вот и вы тоже…
Мазин огляделся. В комнате не было заметно ничего, что противоречило бы словам Саши.
— Не волнуйся. Мы беседовали совсем о другом. Пятнадцать лет назад твоя мать дружила с одной девушкой. Ее убили. И мне потребовалось уточнить некоторые обстоятельства. Вот и все.
— А мне она ни слова! Вечно оберегает. Я слышал об этой истории. Эта женщина — Гусева?
— Да. Что ты слышал?
— Ее убил любовник.
— Так считает Клавдия Ивановна?
— Разве нет?
— Пытаюсь выяснить.
— Мама любила ее. Карточки ее сохраняет, предсмертное письмо…
— Что?!
— Ну, вернее, не предсмертное, а последнее, которое она прислала маме.
— Ты читал это письмо?
— Как-то попалось. Сплошные сантименты. Видно, что, кроме личной жизни, она ничем не интересовалась. Но мама… Да вот она идет.
— Кто у тебя, Саша?
— Это к тебе, мама.
Сибирькова увидела Мазина.
— Добрый вечер, Клавдия Ивановна. Решился еще разок вас побеспокоить.
— Я так и думала, что придете.
— Почему?
Сибирькова не ответила. Сказала сыну:
— Ты, может, погуляешь, Саша?
— Да я все знаю, мам.
— А лучше погуляй.
— Пожалуйста…
Они вышли с Клавдией Ивановной на маленькую кухню, и Мазин присел у чистого белого столика, прислушиваясь, как собирается обиженный недоверием Саша.
— Хороший сын у вас, Клавдия Ивановна, совсем взрослый.
— Какой взрослый? На первый курс поступил. Мальчишка еще, — возразила Сибирькова не без удовольствия.
— На меня он произвел впечатление серьезного юноши.
— Он серьезный, занимается много, учится. Человеком должен стать, не то что я…
Сейчас, в домашнем платье, повязанная косынкой, Сибирькова казалась проще и доверчивее, чем в кафе, но вскоре Мазин почувствовал, что дело не только в перемене обстановки.
— Что это вы слова Гусева о своей работе повторяете?
— Думаете работа легкая? Сказала бы вам, да вы не за тем пришли. Значит, решили не отступаться, пока до правды не доберетесь?
— Решил. Но трудно. Вы, например, помочь мне не захотели.
Сибирькова присела за столик напротив Мазина:
— Заметили?
— Заметил, Клавдия Ивановна. Ведь убийцей Татьяны вы считаете ее любовника. Но мне об этом не сказали. А раз считаете, наверно, имеете основания.
— Ну уж, основания! Просто в голову приходило.
Возразила Сибирькова, но Мазин видел, как отпускает ее та холодная суровость, что броней окружала Клавдию Ивановну в кафе. И не скромной похвалой в адрес сына была пробита броня. Что-то ослабело, смягчилось в Сибирьковой не сейчас. О чем-то думала она, дожидаясь его вторичного появления.
— Ладно. Не затем я пришел, чтобы выуживать то, что говорить не хочется. Хочу задать я вопрос прямой. Были вы подругой близкой Татьяне, и не поделилась ли она с вами сокровенным?..
— Чем именно?
— Говорят, она ребенка ждала.
— Кто говорит?
— Тот, кто знает.
Сибирькова наклонила голову:
— Добрались все-таки до него?
— До кого?
— Ну до студента, что Татьяна любила.
— Почему именно до него?
— А кто ж еще знать это мог?
— Мало ли кто? Врач, например.
Сибирькова свела на белой пластиковой поверхности стола руки.
— Врач не знал, — вздохнула она.
— Почему вы в этом уверены, Клавдия Ивановна?
— Семь бед — один ответ. Эх, если б могла я подумать…
Руки поднялись, Сибирькова коснулась висков.
— Не понимаю, Клавдия Ивановна.
— Откуда вам такую глупость понять? А если о не глупость эта, жила б Татьяна. Потому и не хотелось мне рассказывать. Пятнадцать лет казню себя за эту выдумку.
— Пожалуйста, расскажите.
— Да что рассказывать! Все спорили мы с ней. Она твердит: любит он меня и точка. А я злая была. Сашкин-то отец бросил нас. Я ей и скажи: «Ты слова-то не очень слушай. Все они, брехуны, ласковые. Ты лучше попробуй испытать его… Чтобы он почуял ответственность…»
Мазину стало горько:
— И вы посоветовали Татьяне назваться беременной?
Сибирькова кивнула.
— Выдумать посоветовали?
— Ну да.
Они помолчали, потом Мазин сказал:
— Теперь мне понятно, почему в акте экспертизы не было ни слова о беременности.
Горечь не проходила. «Мало ей было недоброжелателей, нет, вот и подруга помогла…» — думал он о Татьяне.
Сибирькова продолжала:
— Теперь, когда призналась я вам в глупости своей, хочу письмо ее показать. Я тогда к родителям ездила под Калугу, и она мне прислала. Почитайте, если хотите.
Она вышла и вернулась с пожелтевшим конвертом. Мазин осторожно вытащил листки и прочитал. Писала Татьяна разборчиво и крупно, оставляя небольшие поля:
«Кларка!
Представляю, как ты удивишься, что я тебе написала! Скажешь, чего это она выдумала, делать ей нечего. А я решила написать, потому что на душе у меня ужасно горько. Все ты верно сказала, и напрасно я, наивная дура, тебе не верила. Ты жизнь лучше знаешь, чем я. Сделала я по твоему совету, и посмотрела б ты, как он в лице изменился, когда про ребеночка услыхал! Как будто ему ужа за пазуху сунули. Так я пережила, будто и в самом деле одна с младенцем осталась. Всем им, мужикам проклятым, нужны мы, Кларка, чтобы развлекать их и угождать, а сами по себе мы для них не люди; Наплевать им. Уж как я его любила, и сейчас, дура, люблю, но правду вижу: пока у нас одно веселье было, и он веселился, а теперь — дудки! И что самое страшное для меня, отчего реву так, что распухла, — нашел себе кралю. Посмотрела б ты, Кларка: ни кожи, ни рожи. Доска, да и только. Зато папаша с положением. И мой клюнул. А зачем я ему, скажи, пожалуйста? Прямо он мне и сказал: „Ехать нам в Вятку незачем“. Хочет здесь устроиться. Себя согласен продать. Вот каков!
Если б ты знала, Кларка, какая у меня муть на душе. Мужа видеть не могу. Ревность его — просто смешная. Над битыми черепками печется, будто их склеить можно. Не боюсь я его, все равно уйду. Заведу себе дитя, как ты, и буду жить без них, сволочей. Хорошо б девочку. Да вот от кого, не знаю. Что я за разнесчастный человек! Все ко мне липнут, как мухи на мед, а не любит никто…»

![Иоанна Хмелевская - За семью печатями [Миллион в портфеле]](https://cdn.my-library.info/books/184639/184639.jpg)