Анна думала изо всех сил, старательно вспоминая царя, его фигуру, худое лицо с вечной нервозной гримасой, усы щеткой и глаза навыкате. Привычку ходить, размахивая руками.
Апраксия метала карту за картой, склонялась над ними, глядела, и лицо ее отражалось в темной поверхности стола.
— Удача ждет его в скором времени… большая удача, которая большой прибыток принесет. Чего он хочет, то и сбудется… с войною это связано, поглянь — мечи одни выметнулись. Вот эти — вверх торчат, воевать идут, а те, мечи врагов евонных, вниз, в землю смотрят…
…И вскоре дошли до них новости, что сдался гордый Азов, покорился царю.
— А ты-то думала, что я тебя обманываю? — хихикала Апраксия, вновь берясь за колоду. — Нет мне резона лгать. Скажи, какая мне с того выгода?
Анна думала, гадала, но не могла себе этого представить.
— Вернется он, скоро вернется… — Карты вновь ложились на столик, открывая тайны судьбы. — И к тебе, красавица, кинется… встретишь его ласково — многое тебе простится, многое дозволено будет. Да только недолгой эта встреча будет!
— Уедет?
— Уедет, — подтвердила Апраксия, переворачивая карту. — Вот, глянь, видишь дорогу? Следом за солнцем тянется, туда его и манит. Ох, и неспокойная у твоего касатика душенька, вечно ей всего мало… давно ему тесно стало российское гнездо, да все не смел, боялся на свое крыло встать. А уж пора, пора…
— И что мне делать?
Карта замирает в руках Апраксии, она глядит в глаза Анны долгим тяжелым взглядом.
— Делать тебе что? — переспрашивает старушка. — А то, что завсегда делала, что у баб лучше иного-прочего выходит, — ждать…
Перевернулась карта, выставляя пугающую черноту, и Апраксия отпрянула, но тут же потянулась к ней.
— Ох ты ж…
Анна дрожала. Слышала она, будто вот такие, черные карты — верный признак погибели. И теперь, унимая колотящееся сердце, она уговаривала себя, что ошиблась.
— Не бойся, — ласково коснулась ее руки старушка. — Не смерть это. Не та, которая телесная. Душа ведь тоже умереть способна. Или не душа… нет, милая, другое что-то тут…
И вновь, и вновь раскидывала она карты, те же, вдруг сделавшись капризными, не спешили рассказать тайну, лишь раз за разом выплевывали черноту.
— Думаю я так, — утомившись, Апраксия оставила колоду, — что будешь ты одна, на распутье. Какую дорогу выберешь — пока судьбе не ясно, но выбор этот все в твоей жизни переменит. Подумай хорошенько, чего бы ты сама желала.
Ах, если бы Анне знать!
Той ночью, вновь бессонной — не помогали даже особые капли, сестрицей привезенные, — она вновь видела тени: они тянули к ней руки и шептали:
— Дай, дай, дай…
Подруга Оленьки Барской проживала в двухэтажном коттедже, обнесенном высоким забором. За забором хватило места и для английского газона, и для пары желтоватых, явно не местного происхождения, елей, и для розовых кустов, и для беседки, в которой устроилась Инга.
— Зачем нам отчество, — сказала она, окинув Игната оценивающим взглядом. — Мы еще так молоды…
Коттедж, а также алименты на его содержание, небольшого автопарка и дочери, достались Инге от третьего мужа, который был рад, что отделался от супруги относительно легко.
Но дама явно вознамерилась выйти замуж в четвертый раз.
— Так что вы хотели узнать?
Она была при полном параде, и Игнат готов был поклясться, что к встрече этой Инга готовилась не менее тщательно, чем к любому своему выходу в люди.
— Вы ведь были близки с Ольгой Барской?
— Близки? Ну… можно и так сказать. Не самый удачный термин. Оленька была… как бы это выразиться, замкнутым человеком. С ее-то матерью — оно и понятно. Ужасная женщина, вы не находите?
Терпкий запах духов Инги кружил ему голову.
— Оленька мне рассказывала о своем детстве. Ужасно! Бедняжка так страдала… не представляю, как можно было так жить!
Судя по фотографиям Ольгиного особняка, страдала она в весьма комфортных условиях.
— И эта нелепая смерть…
Да, более чем нелепая. Споткнуться на лестнице, в которой всего-то полтора десятка ступенек, и сломать шею. Неудача? Или нечто большее?
Игнат сумел достать отчет по тому делу. Закрыли его сразу, то ли не желая скандала, то ли и правда расследовать там было нечего.
Картина была обыденной до отвращения. Ольга Барская, оставшись одна в доме — дети давно жили отдельно, а слуги получили заслуженный выходной, — возжелала испить кофею. Она спустилась в кухню и, добившись от аппарата желаемого — а желала Ольга эспрессо, — поднималась к себе. С чашкой в руках. И вот чашка вдруг возьми и выскользни из рук, да на костюм, а кофе — горячий, а на ногах у нее — домашние босоножки на десятисантиметровом каблуке… и Ольга не удержалась, покатилась по лестнице да шею себе и свернула.
Несчастный случай?
Или же только выглядит как несчастный случай?
Конечно, охрана поселка утверждает, что в доме действительно никого не было… но Игнат знал, насколько опасно верить подобным утверждениям.
— Расскажите мне о первом ее муже.
Фото его Игнату тоже доставили. Обыкновенный такой человек, серый, ничем не примечательный, можно сказать. Вот только взгляд несколько выбивается из образа: не мутный, не усталый, напротив — хищный, словно за маской Перевертня прячется… кто?
— Ой, ужасный человек, — Инга взмахнула рукой — отрепетированный жест, плавный. Дева-лебедь, и белое платье, подчеркивающее золотистый загар ее кожи, играет «на образ».
Как же они все любят играть на образ!
— Мы с ним только один раз встречались. И я еще удивилась: ну чем он Оленьке так уж понравиться мог? Я к ней в гости зашла… просто так. Обычно, конечно, я предупреждаю о визите, иначе — это неприлично! А тут вдруг как-то просто… заглянула.
Не скажешь, что Инга была так уж сильно привязана к подруге. Да и то, если разобраться по уму, разве у женщины друзьями бывают женщины? Потенциальные союзницы, потенциальные соперницы или же относительно безопасные личности, те, с кем можно провести часик-другой за сплетнями и кофеем.
Ольга относилась к последним.
Она была… никакой. Даже несмотря на все усилия имиджмейкеров, которые ею занимались. Пожалуй, истинную — серую — сущность Оленьки невозможно было спрятать.
Это Ингу радовало.
Нет, конечно, нехорошо радоваться чужим неудачам, но… так спокойнее. Рядом с Ольгой Инга всегда выглядела жар-птицей, ради этого одного стоило перетерпеть Оленькино нытье. Вечно у нее что-то не ладилось. То мамаша ей нервы трепала, то дети ни в грош ее не ставили, то просто окружающий мир радовать переставал. Экзистенциальная тоска…
А тут — Оленька пела… Инга услышала ее еще на первом этаже и удивилась: надо же, а серая пташка-то вовсе и не серая даже… соловей!
Голос-то хороший у нее, сильный и богатый.
И песня такая, от которой в душе все переворачивается. Инга даже замерла, чтобы не спугнуть это ощущение. А потом песня закончилась, и она поднялась, желая высказать Оле свой восторг.
В гостиной сидели двое, Оленька, раскрасневшаяся, возбужденная, какой Инга никогда прежде ее не видела, и престранный тип в сером мятом плаще. Тип сидел за роялем и перебирал клавиши, мелодия рождалась нервная, ломаная и какая-то злая.
— Дорогая! Я так рада, что заехала к тебе! — Инга старую подругу обняла и расцеловала. — Не знала, что ты такая талантливая…
Тип зыркнул в сторону Инги и сгорбился.
— Познакомь меня со своим гостем.
Оленька смутилась и покраснела сильнее обычного.
— Это Вик, мой первый муж…
— Я, пожалуй, пойду, — тип поднялся и, смерив Ингу взглядом, от которого у нее мороз по коже вдруг пробежал, действительно удалился.
— Он… очень хороший человек, — словно оправдываясь, сказала Оленька. — Только мама его почему-то не любит.
В этот момент Инга, как никогда прежде, поняла Оленькину маму, пусть и считала ее всегда хладнокровной старой стервой.
— Если она узнает, что мы снова встречаемся, — Оленька трепала лист одинокой розы, которая лежала рядом с ней на диванчике. Цветок был из недорогих и явно появился тут не случайно. — …то устроит скандал. И дети тоже будут против…
— А ты?
— Мне с ним хорошо…
Инга ни о чем не спрашивала, но Оленька вдруг сама принялась рассказывать: о том, как она встретилась в университете с человеком, который первый увидел в Оленьке не серую мышку, а умного и достойного человека. О том, какой была эта ее утерянная любовь, и что закончилась она свадьбой, а свадьба — разводом, во многом — из-за мамы… ну, и еще из-за собственной Оленькиной глупости.
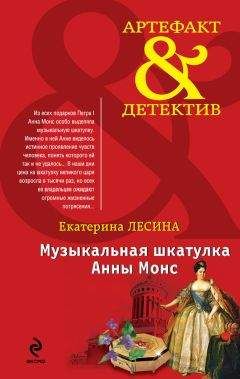
![Даниил Мордовцев - Тень Ирода [Идеалисты и реалисты]](https://cdn.my-library.info/books/179113/179113.jpg)


