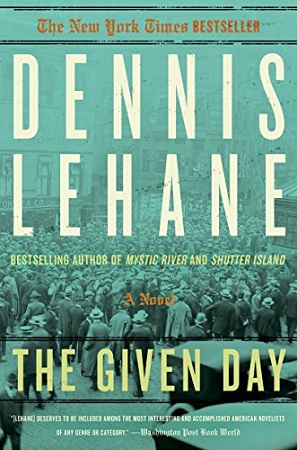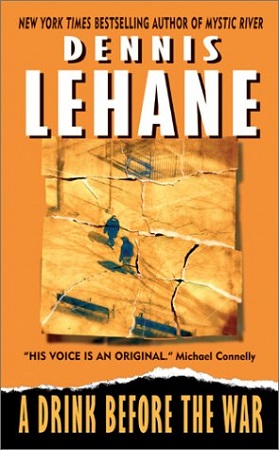в году беспросветная хмарь. Или не знаю, может, это в доме, где я вырос, было так серо… После того как моя мама умерла, – а возможно, и пока она еще была жива, – меня не покидало ощущение, что всё вокруг, даже воздух, цвета асфальта.
Он снова смотрит на присутствующих.
– Но вот там – во Вьетнаме… Если вы там не бывали, то не знаете, что такое подлинная зелень. Я сколько лет пытаюсь кому-нибудь ее описать, но все без толку. Рисовые чеки [31] с клубящейся над ними дымкой по утрам, кроваво-рыжее небо ночью, птицы, летящие низко над разливами рек… не знаю, в таком месте могут отдыхать боги. Мир, полный чудес. Но вся эта красота замарана смертью, и у меня крыша поехала, когда я осознал, что эту смерть несу я со своей большой пушкой. Что я убиваю красоту.
Бобби замечает, что невольно опустил голову, и усилием опять заставляет себя смотреть в глаза слушателям.
– Но когда я вмазываюсь, это ощущение проходит, и я чувствую только восхищение. Когда я вмазываюсь, мне кажется, будто… – Он сосредотачивает взгляд на блондинке, заметив в ее глазах какое-то отчаяние пополам с надеждой. – Будто по моим венам растекается красота. Я пребываю в гармонии. Я совершенен. Я снова цел.
Блондинка несколько раз мигает. Одинокая слеза падает с ее ресниц и, скатившись по скуле, разделяется на три маленькие, которые Бобби кажутся отражением священной триады: причастие, консекрация, консумация.
Женщина отводит глаза, но Бобби чувствует, что остальные присутствующие глядят на него. Он вжимает голову в плечи, вдруг устыдившись, что так много наговорил.
– Спасибо за откровенность, – произносит Даг Р.
Слышатся сдержанные хлопки.
Озлобленного вида мужчина в деловом костюме тщательно выговаривает:
– Я сижу на героине, потому что Бог умер, а если не умер, то в бессрочном отпуске.
Бобби чувствует, как все пытаются удержаться, чтобы не взвыть.
* * *
На ступеньках церкви Бобби догоняет блондинка-учительница.
– А остальные в курсе, что вы полицейский?
Вглядевшись повнимательнее, он смутно припоминает, что когда-то уже ее встречал.
– Я стараюсь это не афишировать.
– Вы как-то задерживали меня. Пару лет назад.
Да чтоб тебя… Именно поэтому Бобби на встречах не говорит, чем занимается.
– Я вас хорошо запомнила: лицо суровое, но голос добрый… – Женщина закуривает и смотрит на него сквозь дым. – Вы тогда сидели на игле?
– Пару лет назад? Да. – Он кивает. – Незадолго до того, как завязал.
– То есть ловили зависимых вроде меня, но при этом сами употребляли.
С некоторых пор Бобби старается не уклоняться от правды, какой бы неприятной она ни была.
– Да.
У входа в церковь только они вдвоем; остальные расселись по машинам и разъехались. Легкий ветерок шелестит листвой и треплет волосы. Издалека доносится гул юго-восточной магистрали – резкие гудки и грохот грузовиков.
Женщина внезапно приветливо улыбается:
– Вы задержали меня, но потом отпустили.
– Отпустил?
– Вы посадили меня в машину и повезли в участок. А по дороге спросили, кем я была до того, как подсела. Я сказала, что я не какая-нибудь опустившаяся наркоманка, у меня достойная работа…
– Вы социальный работник. – Бобби улыбается, припоминая. – У вас тогда была другая прическа.
– Да, волосы у меня русые, поэтому я их подкрашиваю. И перманент сделала.
– Вам идет, – машинально отвечает Бобби, и его тут же посещает желание прострелить свою тупую башку. «Вам идет…» Ну откуда это вылезло?
– Вы отвезли меня в клинику на Хантингтон-авеню, – говорит она. – Помните?
– Что-то такое было, да.
– Вы завели меня внутрь и сказали: «Ты еще можешь вернуться к своей настоящей жизни».
– И вам помогло?
– Не сразу, нет. Прошло еще полгода, прежде чем я решилась. Но сейчас я уже четыреста восемьдесят один день как чиста.
– Поздравляю.
– Но мне все еще страшно… А вам?
– Еще как.
Она протягивает руку.
– Кармен.
– На вид не скажешь.
– Знаю. Просто мама очень любила оперу.
Бобби усмехается, как будто уловил связь, и пожимает протянутую руку.
– Майкл. Но все зовут меня Бобби.
– Бога ради, почему?!
– Это длинная история.
– Проводите меня до машины и расскажите. Я припарковалась в паре кварталов отсюда, а райончик здесь, мягко говоря…
– Конечно.
И они вместе идут по тротуару.
Теплый летний вечер. Пахнет скорым дождем. Бобби провожает Кармен до машины. Он украдкой косится на спутницу и замечает, что она тоже поглядывает на него с какой-то потаенной улыбкой. В голову приходит мысль, что противоположность ненависти – это не любовь, а надежда. Ведь любовь накапливается с годами, а надежда выныривает из-за угла, когда ты ее даже не ищешь.
Телефон трезвонит и трезвонит, не умолкая. Мэри Пэт смотрит на него, не соображая, сколько уже просидела на диване в гостиной и сколько уже продолжаются звонки. Вдруг становится тихо, но не проходит и минуты, как телефон снова оживает. После девяти звонков тишина. Минута, может, больше – пять минут. И снова звонки. Первый. Второй. Третий. На четвертом Мэри Пэт выдергивает провод из аппарата.
Наверное, звонят из дома престарелых. Мэри Пэт уже должна быть на работе. Осознание этого почти сбивает оцепенение, не отпускавшее ее с того момента, как она открыла саквояж с деньгами. Но нет, оцепенение слишком мощное, будто ее всю накачали новокаином. Только оно не расслабляет и не успокаивает, а наоборот, давит на кожу, на сосуды, на мозг, на нервные окончания. Словно кто-то держит ее за шею, вжимая лицом в землю и не давая подняться, в страхе, что иначе этому кому-то несдобровать.
Но бояться нечего. Она едва ли встанет на ноги. В прямом и в переносном смысле. На работе уж точно какое-то время не сможет появляться. Да и станут ли в Мидоу-лейн-мэнор дожидаться, пока она будет готова вернуться?.. Ну и хрен бы с ними.
В радиоприемнике Мэри Пэт нашла станцию WJIB, где крутят только классическую музыку, и не в силах прекратить ее слушать. Не выключает даже, когда идет спать (если то, что с ней происходит иногда в последние дни, вообще можно назвать сном). Она никогда не была поклонницей какого-то определенного исполнителя; просто любила то, что попадало в хит-парады. Этим летом она, как и все вокруг, заслушивалась «Rock the Boat» «Хьюз корпорейшн», «Billy Don’t Be a Hero» «Пейпер лейс» и, конечно же, «Don’t Let the Sun Go Down on Me» Элтона Джона. Но теперь эти песенки кажутся ей глупыми, потому что написаны не для нее, не про нее. Даже строчка «Но если все пропало, для меня это закат» совсем не