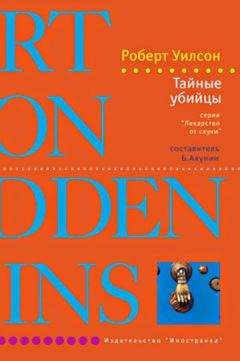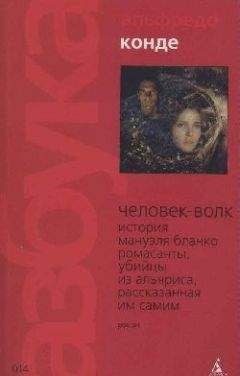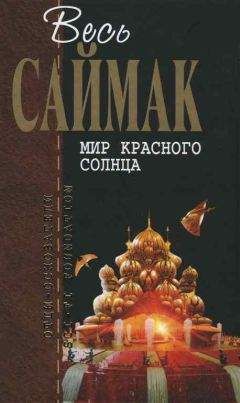Мариса топнула ногой, сжала кулаки и взглянула вверх, словно взывая к невидимому и безразличному к нашим страданиям Господу.
— В том-то и дело, маленькая послушница, — сказала она. — Они на что угодно способны, эти люди. С ними такие парни, которым на все наплевать. Девушка перед ними, младенец или восьмилетний мальчишка — для них один черт. И если я обмолвлюсь хоть словом…
— Мы сможем тебя защитить, установить у дома пост.
— Меня защитить вы сможете, — сказала Мариса. — Сможете запереть меня в четырех бетонных стенах и держать там до скончания века! Только им это будет одно удовольствие, потому что они будут знать наверняка, что думаю я только о Маргарите и тех ужасах, что ей приходится переживать. Так действуют эти люди и по-другому не умеют. Зачем, думаешь, она им понадобилась? Невинный барашек, совсем юная девчушка…
— Я слушаю тебя, Мариса.
— Когда умер отец, на его клубе в Хихоне висел долг. Мать в лепешку расшибалась, чтобы наскрести денег и выплатить долг. Потом она заболела. Они забрали Маргариту в залог, в счет долга. Но на самом деле мы им не были ничего должны. Ведь настоящими владельцами клуба были они. Они всю жизнь качали деньги из отца, даже когда он работал в кубинском сахарном экспорте. Но они воспользовались нашей беспомощностью — беспомощностью женщин, оставшихся без мужчины, и изобрели этот долг, выплатить который невозможно. Чтобы платить им, моя сестра будет продавать себя так долго, как только сможет, пока не иссохнет от наркотиков и не угробит себя бесконечным развратом. А после они вышвырнут ее на улицу, и она окажется в подворотне. Скотину и то они жалеют больше.
Рейс Лондон — Севилья, 16 сентября 2006 года, 20.15
Ответить ей он не мог. Так долго ждать от нее этих слов, а когда они наконец прозвучали, не смочь ответить! Почему? Потому что признание в чувстве, так долго ею таимом, долетело до него из служебного его кабинета и было вызвано собственными его успокоительными словами, которые он произносил сотни раз сотням потерпевших, заглянувшим в страшный ледяной желоб тобогана, внезапно открывшийся их глазам. Метафора эта принадлежала отставному сыщику из Норвегии, преподававшему в их полицейской академии в далеких восьмидесятых. Когда Пер Арвик, описывая им безвыходность положения и отчаяние тех, кто стал невольной жертвой преступников, впервые употребил эту метафору, ему пришлось для начала объяснять, что такое тобоган. На двадцатилетних испанских парней описание этого головокружительного ледяного спуска произвело сильное впечатление. Арвик заверил их, что ужас, испытываемый невольными жертвами, сравним только с чувством, которое неминуемо охватывает спортсмена-санника перед стартом, и если следователь нуждается в помощи кого-либо из жертв, ему ничего не остается, как всячески ободрять его и, подталкивая к началу головокружительного спуска, внушать, что будет с ним до конца. Если слова ваши окажутся убедительными, если вы сами будете верить в них, для жертвы вы станете роднее родного брата.
Консуэло полюбила его вследствие навыков, полученных им в полицейской академии. Честь и хвала Перу — он мог бы гордиться Фальконом!
Нет, хватит! Гнать от себя подобные мысли! Понятно, откуда они идут — просто он устал, начинает сказываться напряжение, хотя в переполненном салоне его вынуждены были посадить в бизнес-классе. Он пил разбавленное виски и, грызя ноготь большого пальца, вжимался в кресло при мысли о Дарио, находящемся в руках бандитов. Едва взглянув на него, Консуэло поймет, что виной всему он, Фалькон, что мальчика похитили из-за него.
Расскажи он ей все или нет — она его не простит.
Единственная надежда — действовать, и действовать незамедлительно.
Необходимо найти мальчика.
Сразу же по прибытии, еще шагая через зал, он позвонил Кристине Феррере. Было 10.35. Разница во времени отняла у него час. Феррера провела с Марисой два часа, но кубинка так и не раскололась. Кристина отвела ее домой, дала аспирин, уложила в постель. Та даже не захотела подтвердить, что девушку удерживает у себя русская мафия, что это они сумели так запугать Марису и потому ей остается только молчать. Какая цель стояла за ее отношениями с Кальдероном, она тоже не сказала. Даже в стельку пьяная, она не могла пересилить свой страх.
— Ты отвезла ее домой, — сказал Фалькон. — Это хорошо.
— По-моему, кроме меня, ей сейчас надеяться не на кого.
— Чем собираешься заняться сейчас?
— Лягу спать, чтобы утром встать пораньше. Отвезу детей в Кадис, пусть сходят на пляж и пообедают с моей мамой.
— Ну понятно.
— А вы?
— Думаю первым заступить на вахту в круглосуточной слежке за Марисой Морено.
— Но средства для этого вам не выделены. А как будет с Консуэло?
— Наверно, теперь она долгое время не захочет меня видеть.
— Вы собираетесь ей рассказать?
— Альтернатива даже не рассматривается.
— Я поеду следить за квартирой Марисы. Смените меня, когда сможете.
— А как же дети?
— Соседка сможет присмотреть за ними несколько часов. Но ехать к Марисе прямо сейчас я не в состоянии, — сказала она. — Ужасно есть хочется.
— Поезжай как только сможешь.
Фалькон поспешил к машине, откуда позвонил старшему инспектору Тирадо из отдела по борьбе с преступлениями против детей. Он уже связывался с ним, еще находясь в Хитроу. Тирадо он застал за рулем — тот ехал куда-то.
— Я только что от сеньоры Хименес, — сообщил он. — Она осталась с сестрой и двумя своими старшими мальчиками. Она удивительно спокойна. Мы вызвали доктора — померить давление и все такое прочее. Она держится превосходно. Доктор дал ей снотворное и успокоительное, которое, она сказала, принимать не станет.
— А у вас как дела?
— Самая главная новость — это то; что мы обнаружили их на записях видеокамер.
— Изображение четкое?
— Приличное. Но кадров получилось не так много. Запись мы оставили сеньоре Хименес. Пусть смотрит.
— Новых свидетелей не нашли?
— К сделанному утром Кристиной Феррерой мы не смогли добавить ничего существенного, — сказал Тирадо. — Остается лишь надеяться, что их слова о том, что больше мы о них ничего не услышим, только угроза. Не выдвинуть вскоре какие-то требования было бы на них не похоже, но, думаю, промучиться до понедельника они ее заставят.
— Что насчет прессы?
— Сообщить в воскресные газеты мы не успевали, да я и не хотел этого. Пусть сообщение появится в понедельник, это даст сеньоре Хименес какое-то время опомниться, прийти в себя. Это будет сенсация, шок. Об исчезновении мы объявляли по местному радио, и нас торопят — жаждут подробностей. По-моему, и телевизионщики пронюхали — ходят кругами вокруг управления.
— Я собираюсь организовать слежку за Марисой Морено.
— Кристина Феррера рассказала мне о ней, — сказал Тирадо. — Так вы считаете, что эти русские проявятся?
— Вы можете выделить людей для слежки?
— Я ждал этого вопроса, — отвечал Тирадо. — Послушайте, Хавьер, ваша теория о причине похищения выглядит убедительно. Но я не могу отбросить и другие линии расследования. Если они свяжутся с вами и вступят в переговоры — тогда дело другое. А пока я ищу того парня, который пристал к сеньоре Хименес на площади Пумарехо и, по свидетельству ее сестры, позже крутился возле ее дома. Я еще не рассматривал ни ее деловых знакомств, ни возможных врагов Рауля Хименеса. А ведь похищен-то его сын! Отца я знать не знал, но слышал, что не все относились к нему с симпатией. А мстить у нас мастера.
Было около одиннадцати, но жара еще не спадала. От аэропорта Фалькон отъехал, когда термометр все еще показывал 36 градусов, а из кондиционера тянуло легким запахом самолетного топлива. Хотелось бежать, скрыться. Ладони были влажными от пота. Да, вот скрыться сейчас было бы самое милое дело. Он начал думать о том, что сказать Консуэло. Искренние, идущие от сердца слова не придумывались. Казалось, этот путь закрыт, заблокирован чувством вины.
Машины мчались по автостраде, обгоняя его. Он сбавил скорость до шестидесяти километров в час — подсознательный страх перед неизбежным, перед их разговором заставлял его притормаживать. Он пересек кольцевую, миновал Баррио-де-Санта-Клару, средоточие богатства в окружении промышленных зон и наркопритонов Полигоно-Сан-Пабло.
Припарковался. Позвонил в звонок у калитки. Передняя дверь распахнулась. Показался силуэт. И он шагнул в ее объятия, чувствуя себя каким-то самозванцем. Его виновато склоненную шею обдало теплым дыханием Консуэло, щека обманщика ощутила влагу. Консуэло приникла к нему, и он гладил и похлопывал ее по спине жестом, как он слышал, успокаивающим, подобным стуку материнского сердца, ощущаемым нами еще в утробе.
— Нам надо поговорить, — сказал Фалькон.