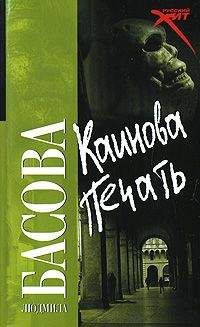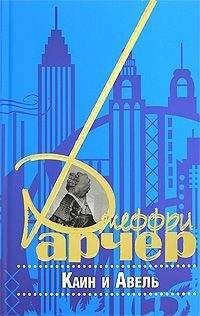Геля огляделась вокруг, есть ли милиция, увидела человека в форме, подбежала, стала объяснять, что вон там, за тонаром…
– Драка, что ли? – спросил милиционер.
– Нет, но они его будут бить, вот увидите.
– Будут – увижу, – ответил милиционер, с подозрением оглядывая страшную тетку с двумя кошелками.
Геля стала обращаться к продавцам, к покупателям, но все от нее шарахались, никто не слушал. Тогда сама побежала, переваливаясь на больных толстых ногах. Мальчишка уже валялся на земле, его с остервенением пинали ногами. Геля полезла в кошелку, где под шторами лежал зонтик, но никак не могла его вытащить. Наконец выдернула вместе с зацепившейся шторой. Из горла ее вырвался клокочущий хриплый крик. Парни невольно обернулись и в ужасе бросились врассыпную. На них двигалось, размахивая нераскрытым зонтом, обмотанное, как саваном, белым тюлем, какое-то чудовище с выпученными глазами и всклокоченной головой. Мальчишка, которого избивали, тоже испуганно закричал, закрыл лицо руками, но Геля не стала его успокаивать, прошла мимо. Обе кошелки она потеряла, зонт тоже, штору, сдернув с себя, выбросила и пошла, не разбирая дороги. Сколько шла, не знает, а пришла, как оказалось, снова в мастерскую. Единственная мысль, которая запомнилась ей из сумбура, «я объясню этой дочке…».
Дочки не оказалось, Графов сидел в ожидании один за письменным столом. Увидев Гелю да в таком виде, оторопел, а она с воинствующим кличем пошла на него, только в руках у нее теперь почему-то был не зонтик, а ножницы… Опомнилась, когда силы оставили ее, а художник уже сполз с кресла, лежал на полу, весь залитый кровью. Но и полностью обессилев, Геля не могла разжать пальцы, которыми стискивала ножницы. Кое-как дошла до ванны, долго держала руку под струей горячей воды и, наконец, освободилась от них.
* * *
– Поверьте, Дмитрий Дмитриевич, я даже не помню, как шла домой, а ведь шла пешком. Когда соседка стала спрашивать, почему я так поздно и что со мной случилось, ко мне стало возвращаться сознание. Я даже придумала, что была в больнице. Ночью уснула. А утром уж и не знала, где правда, а где кошмарный сон. Пошла на работу, увидела, и не то чтобы вспомнила, нет, просто поняла – вчера почему-то вернулась и убила своего Благодетеля. Когда вы забирали Пашу, я чуть не призналась, но побоялась, что вы меня, как его, сразу заберете, а я даже соседку предупредить не успею. Чтоб хоть накормила, чтоб немного позаботилась о сыне, пока его не сдадут в Дом инвалидов. Но там он долго не протянет.
– А сейчас предупредили соседку?
– Да. И денег ей дала, какие были. Конечно, про убийство не сказала, а на случай, если упаду где да не встану. Сама же решила: если не дознаетесь, это у вас, кажется, висяк называется, буду молчать. А если Пашу обвините, пойду признаюсь.
– Геля, кроме Митрохина, подозреваемыми были еще два, по-моему, неплохих человека… Но давайте лучше поговорим о вас. Я, конечно, не судья, но думаю, много вам не дадут, возможно даже, срок будет условный. Сын инвалид, вы сама инвалид, врач, скорее всего, установит состояние аффекта. В общем, сделаем так. Я сейчас возьму подписку о невыезде…
– Дмитрий Дмитриевич! Я и одна-то далеко не убегу, а с ним куда же?
– Так положено, Геля. Потом сосредоточьтесь, напишите признание и завтра к десяти часам сами приезжайте в управление. Оформим как явку с повинной. Я поговорю с начальником, он у нас мужик понимающий, чтоб мерой пресечения осталась подписка о невыезде.
Возвращался Дмитрий с тяжелым чувством. По дороге позвонил по мобильному Коле Артемову:
– Таксиста нашел?
– Еще нет. Вернее, почти нашел, но пока не встретился, он сейчас в поездке, вернется часа через два.
– Отбой, Коля, Грачева отпускай.
– Почему, капитан?
– Завтра. Все, Коля, завтра. А сейчас иди и отсыпайся.
Поехал домой и сам. Маруся на звонок не открыла, плескалась в ванне. Дмитрий под дверью ванны громко запел: «Мыла Марусенька белые ноги…» Она заторопилась, вышла, кутаясь в махровый халат.
– Ты сегодня рано, а, капитан? И лучше бы уж «Мурку» пел.
– Почему лучше?
– Потому что ее ты поешь в хорошем настроении. А про белые ноги – в плохом.
– Все-то ты у меня знаешь, Маруся Климова! Прости любимого…
– Что, Митя, никакого просвета?
– Просвет полный, Маруся. А вот глубокого морального удовлетворения нет…
В десять часов Геля не пришла в управление, в десять тридцать капитан начал нервничать, а в одиннадцать, поймав такси, поспешил по знакомому адресу, обзывая себя последним идиотом. Звонить не стал, просто толкнул дверь, заранее предполагая, что она будет незапертой. Геля лежала на постели, обняв сына, оба не шевелились и не дышали. На столе пустые упаковки от сильнодействующих транквилизаторов и наполовину пустая бутылка коньяка. Чуть поодаль листок бумаги – признание в убийстве, написанное грамотно, по всей форме, с датой и подписью, и записка, адресованная лично ему, Прозорову: «Спасибо вам за добрые слова и сочувствие, которое странно было видеть в человеке, чья задача – найти убийцу. Но как бы гуманно ни отнесся ко мне суд, я все равно не проживу с сыном на мизерные пенсии, их не хватит даже на оплату квартиры. Отдавать же его в Дом инвалидов – это обрекать на смерть мучительную, лучше уж так, сразу и вместе. Выходит, что при всем при том, Графов был действительно моим Благодетелем.
Понятно, что в смерти моей прошу никого не винить…»
* * *
Илья Валентинович сдержал слово, данное своему другу Дмитрию два года назад: не только вылечить Лидию, избавить ее от комплексов, но и жениться на ней. Тогда Дима попросил его, опытного врача-психиатра, поприсутствовать при беседе с художницей и помочь ему разобраться в некоторой неадекватности ее поведения. Именно там, в кабинете следователя, и сразила наповал доктора любовь.
Так странно начавшееся знакомство привело к счастливому браку, а сегодня Илья с Лидией ждали гостей на день рождения дочки, их маленькой Сонечке исполнился годик. Пригласили самых близких друзей – Дмитрия Прозорова, теперь уже майора милиции, и его жену Марусю. Пригласили и родственников – Григория Ивановича с Софьей Николаевной. Сонечка для них – внучатая племянница. Конечно, если Графов действительно был отцом Лидии. Но она не хотела особо разбираться в кровном родстве, уж очень симпатична была Лидии эта пожилая чета. Софью Николаевну она обожала, оттого и дочку назвала ее именем. Даже призналась однажды мужу: если в этом возрасте женщина может быть такой очаровательной, то и стариться не страшно. Что же касается пожилого интеллигентного сапожника, то его Лидия уважала за то, что он способен на поступок: отказался от наследства, отдал дом Розенблатов под приют для беспризорников, раздал школам и библиотекам картины, взяв себе только пару старых пейзажей да коня с перебитым крылом со странным названием «Автопортрет».
Сама Лидия после родов немного пополнела, но это не портило ее, наоборот, сделало более женственной. А ведь врачи пугали, первые роды в сорок два года – это рискованно, готовились к кесареву, но Лидия благополучно родила здоровую, красивую девочку. Маруся, которая раньше и слышать не хотела о детях, теперь не чаяла души в Сонечке, и когда приходила в гости к друзьям, не спускала ее с рук, целовала и тискала. А однажды призналась Дмитрию, что хочет ребенка.
За столом было весело, Илья чего только ни наготовил, даже торт испек. Лида, как оказалось, готовить почти не умела. Впрочем, за годы холостяцкой жизни Илья так пристрастился к стряпне, – а поесть вкусно любил всегда, – что была ему эта забота вовсе не в тягость. Он любил жену самозабвенно, угодить ей, побаловать ее было для него радостью. Выпили по рюмке, по другой – не пила только Лида, она еще кормила грудью Сонечку, и, как случалось всегда, если они собирались вместе, вспомнили об убийстве Графова. Вспомнили, хотя Дмитрий об этом вспоминать не любил. Хоть и быстро раскрыл он преступление, дело это считал провальным: не сумел предусмотреть и предотвратить самоубийство Гели, с тех пор оно камнем лежало на сердце. Но сегодня для разговора об убитом художнике был повод. Разбирая бумаги брата, Григорий нашел старый, пожелтевший от времени листок, на котором было написано два слова: «Кощеевка. Агафья». Агафьей звали мать Лидии. Теперь они пришли на день рождения как совершенно законные, а не принятые условно родственники.
– Кстати, о записках, – неожиданно вступил в разговор Дмитрий. – Когда мы делали обыск в мастерской Графова, я тоже наткнулся на одну любопытную запись. Мне для расследования она не понадобилась, но вот чертовщина: все вспоминаю и вспоминаю прочитанное, пытаюсь найти в нем смысл и не могу. Не знаю, может, это по части Илюши?
– А что там? – спросил Илья.
– Дайте листок бумаги, – попросил Дмитрий, – хочу написать их так, как они были написаны, в три строки.
Написал, показал и прочел вслух: