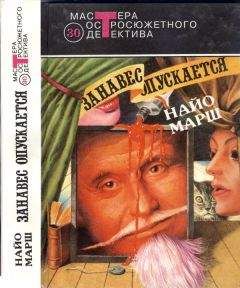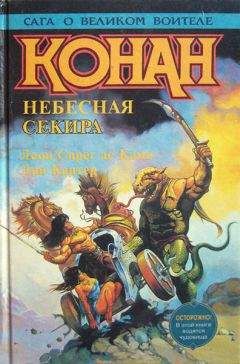– Во-первых, чернила слишком темные, – сказал отец Филипп, разглядывая лист. – Пергамент со временем впитывает в себя жидкость, и то, что остается на поверхности, уже и не чернила, а пятно в форме слова. Это видно на плане монастыря.
Гамаш наклонился над свитком. Настоятель был прав. Гамаш полагал, что со временем и под воздействием света черные чернила слегка выцветают, но происходило нечто иное. Пергамент впитывал их в себя. Цвет сохранялся внутри материала, а не на поверхности.
– А здесь чернила еще не впитались. – Настоятель показал на желтый пергамент.
Гамаш нахмурился, впечатленный этим обстоятельством. Ему еще придется проконсультироваться с экспертами-криминалистами, но он подозревал, что отец Филипп прав. Песнопение на пожелтевшем пергаменте написано недавно, его только пытались выдать за старинное. Изготовили для обмана.
– Кто это сделал? – спросил Гамаш.
– Не знаю.
– Позвольте тогда спросить иначе. Кто мог бы это сделать? Вам известно, что лишь немногие могут исполнять григорианские песнопения, не говоря уже о том, чтобы записывать их, даже поддельные, с использованием вот этого. – Он ткнул указательным пальцем в одну из невм.
– Мы живем в разных реальностях, старший инспектор. То, что очевидно вам, далеко не очевидно мне.
Настоятель вышел и тут же вернулся с тетрадью, явно современной. Открыл ее. Внутри, на левой странице, Гамаш увидел латинский текст и закорючки невм. Справа тот же текст сопровождался не невмами, а современной музыкальной нотацией.
– Одно и то же песнопение, – пояснил отец Филипп. – С одной стороны в старой форме, записанное невмами, а с другой – современными нотами.
– Кто его записал?
– Я. Моя ранняя попытка расшифровать старые песнопения. Боюсь, что получилось не очень хорошо, не очень аккуратно. Более поздние выглядят лучше.
– А где вы взяли старое песнопение? – Гамаш показал на страницу с невмами.
– Из нашей книги песнопений. Прежде чем вы начнете впадать в раж, старший инспектор…
Уже в который раз Гамаш отметил, что даже малейшее изменение в выражении его лица не остается незамеченным этими монахами. В монастыре легчайшее проявление любопытства считалось «впадением в раж».
– …позвольте сообщить вам, что во многих монастырях есть как минимум одна, а нередко и несколько книг песнопений. Наша из наименее значительных. Рукопись не иллюминирована – никаких иллюстраций. По церковным стандартам довольно неинтересная книга. Я подозреваю, что в те времена все нищие гильбертинцы могли позволить себе такое приобретение.
– И где хранится ваша книга песнопений?
«Может быть, – подумал Гамаш, – книга и есть их сокровище, которое они прячут. А охрана древней книги является обязанностью одного из монахов. Возможно даже, что убитого приора. Насколько влиятельным делала эта обязанность брата Матье?»
– Она хранится на аналое в Благодатной церкви, – сказал настоятель. – Если ее открыть, то она громадная. Но по-моему, брат Люк держит ее теперь в своей каморке. Изучает.
Настоятель едва заметно улыбнулся, увидев тень разочарования на лице старшего инспектора.
Гамаша сильно смущало, что его чувства так легко прочесть. Кроме всего прочего, это сводило на нет все предполагаемые преимущества следователя: подозреваемые не должны знать, что на уме у полиции. Но настоятель, казалось, знал или провидел почти все.
Впрочем, отец Филипп не был ясновидящим всезнайкой. Ведь он даже не догадывался о том, что среди монахов есть убийца. Или все же догадывался?
– Видимо, вы хорошо умеете читать невмы, – сказал старший инспектор, возвращаясь к тетради настоятеля. – Вы ведь сумели перевести их в современную нотацию.
– Вашими бы устами да мед пить. Я не худший, но далеко не лучший знаток. Мы все умеем читать невмы. Для каждого новичка, приезжающего в Сен-Жильбер, это первостепенная необходимость. Как и для брата Люка. Начать переписывать григорианские хоралы современной музыкальной нотацией.
– Зачем?
– В некотором роде это первое испытание. Так мы проверяем преданность монаха делу. Если человек не предан беззаветно григорианским песнопениям, то для него такое задание будет тяжким трудом. Хороший способ отсеять любого дилетанта.
– А для тех, кто беззаветно предан?
– Для них такое занятие – блаженство. Мы ждем не дождемся, когда можно будет подойти к книге. Поскольку она лежит на аналое, мы заглядываем в нее когда угодно.
Настоятель опустил глаза на тетрадь, перелистал несколько страничек, улыбаясь, иногда покачивая головой и даже тьфукая при виде ошибок. Гамаш вспомнил, как его дети, Даниель и Анни, просматривали альбомы с собственными детскими фотографиями. Смеялись, иногда поеживались, реагируя на прически, одежду.
Монахи не хранили альбомов с фотографиями. Или семейных снимков. Все это им заменяли тетради с невмами и нотами. Песнопения вытеснили семью.
– Сколько времени нужно, чтобы переписать всю Книгу песнопений?
– Целая жизнь. На переписку одного хорала иногда уходит целый год. Это превращается в удивительно прекрасные отношения, очень интимные.
Настоятель на какое-то мгновение перенесся куда-то в другое место. Место, где нет ни стен, ни убийства, ни офицера Квебекской полиции, задающего вопросы.
Потом он вернулся:
– Поскольку это работа долгая и сложная, большинство из нас умирает, так и не успев закончить.
– А что случилось вот только что? – спросил Гамаш.
– Вы о чем?
– Когда вы говорили о музыке, ваш взгляд словно подернулся дымкой. У меня создалось впечатление, будто вы куда-то уплыли.
Настоятель обратил свой проницательный взгляд на старшего инспектора. Но промолчал.
– Подобное выражение я видел у вас и прежде, – заметил Гамаш. – Когда вы пели. Не один вы, а вместе со всеми.
– Наверное, это радость, – сказал настоятель. – Стоит мне подумать о песнопениях, как мне кажется, что все заботы куда-то уходят. В таком состоянии я ближе всего к Богу.
Но Гамаш видел такое выражение и на других лицах. В провонявших, грязных, убогих комнатах. Под мостами и в холодных проулках. На лицах живых, а иногда и мертвых людей. Выражение экстаза. Экстаза особого рода.
Эти люди достигали экстаза не благодаря песнопениям, а с помощью шприца, кокаина и маленьких таблеток. И иногда они оттуда не возвращались.
Если религия была опиумом народа, то чем тогда были песнопения?
– Если уж вы переписываете одни и те же песнопения, то разве не проще переписывать у других? – спросил старший инспектор, думая о том, что сказал настоятель, прежде чем отбыть в свою благодать.
– Предлагаете мошенничать? Вы живете в ином мире.
– Я просто спросил, – улыбнулся Гамаш. – Не высказывая никаких предложений.
– Наверное, можно и так, но тогда это не тяжкий труд. Суть не в том, чтобы переписать песнопения, а в том, чтобы заучить их, жить внутри музыки, слышать голос Господа в каждой ноте, каждом слове, каждом дыхании. Любой, кто выбрал бы короткий путь, не смог бы посвятить свою жизнь григорианским песнопениям и провести годы жизни здесь, в Сен-Жильбере.
– Кому-нибудь удавалось переписать всю Книгу песнопений?
– Насколько я знаю, всего нескольким монахам. Но не при моей жизни.
– А что происходит с тетрадями после их смерти?
– Их сжигают на специальной церемонии.
– Вы сжигаете книги? – поразился Гамаш.
– Сжигаем. Тибетские монахи долгие годы создают замысловатые художественные творения на песке, а когда заканчивают, тут же их уничтожают. Суть в том, чтобы не прикипать душой к предметам. Божественный дар – музыка, а не рабочая тетрадь.
– Наверное, это мучительно.
– Да. Но вера нередко мучительна. И нередко радостна. Две половинки целого.
– Значит, вы не считаете, что текст на пергаменте приора так стар? – Гамаш снова посмотрел на пожелтевший лист, лежащий поверх плана монастыря.
– Не считаю.
– Что еще вы можете сказать?
– Очевидна разница между песнопениями – именно поэтому я и показал вам мою рабочую тетрадь.
Настоятель положил желтый лист в свою тетрадь, закрыв им страницу с современной нотацией. Два песнопения с невмами оказались рядом. Старший инспектор принялся сравнивать их. Почти минуту он просидел молча, рассматривая листы. Переводя взгляд с одного на другой. Изучая слова и значки, заполнившие страницы.
Потом его взгляд замер на одной странице. Спустя какое-то время он переместился на другую.
Когда Гамаш оторвал глаза от тетради, в них сверкала искорка открытия, и настоятель улыбнулся, как мог бы улыбнуться сообразительному молодому послушнику.
– Тут разные невмы, – сказал Гамаш. – Нет, они не разные. Но на листке, который мы нашли на теле приора, их больше. Гораздо больше. Теперь, когда я имею возможность сравнить их, мне это очевидно. В вашей тетради, скопированной с оригинала, на каждую строчку всего несколько невм. А листок приора пестрит ими.