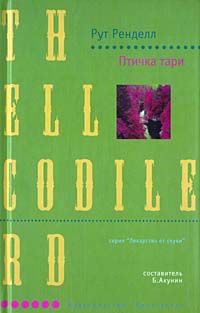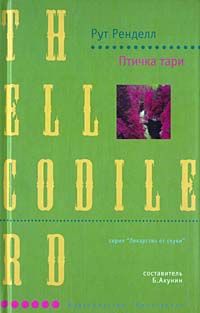Транспарант был точно такой же, как и на другой стороне дороги, и держали его четверо. Лиза сделала, как ей было сказано, и вцепилась в кусок над буквами БЖД. Слева от нее стоял мужчина, а с правой стороны мальчик. Оба они сказали:
— Привет, — и мальчик спросил, здешняя ли она. Лиза ответила, что она из деревни. Дома их отсюда не видно, но до него всего полмили.
— Рукой подать, — сказал мужчина. — Твоя семья часто ездит этим поездом, верно? Или, вернее, ездила?
— Каждый день, — ответила Лиза.
Это была далеко не первая ее ложь. Лиза регулярно врала матери насчет того, где была, когда на самом деле уходила смотреть телевизор.
— Им и в голову не приходит, что здесь не у каждого есть машина, — сказал мужчина. — Вот у твоего папы есть машина?
— Вот женоненавистник, — возмутилась женщина, стоявшая по другую сторону от него. — Почему бы не спросить, нет ли машины у ее мамы? Да будет тебе известно, у нас женщинам пока еще позволено сидеть за рулем. Мы не в Саудовской Аравии.
Лиза коротко ответила, что машины у них нет: машину Бруно она не считала, и только собралась сказать о том, что у нее нет и папы, когда от дальнего конца туннеля раздался гудок паровоза. Он всегда гудел, въезжая в туннель и выныривая из него, так как дорога была одноколейной и, вероятно, существовала возможность столкнуться в темноте со встречным поездом. Однако теперь проблема эта отпала раз и навсегда.
— Это последний поезд на веки вечные, — сказал мужчина. — Последний, черт его дери!
Вынырнув из туннеля, паровоз снова загудел, некоторые встретили этот звук восторженными возгласами. Лиза не поверила своим глазам, когда четверо на другой стороне насыпи, державшие транспарант, и трое других с плакатами начали спускаться вниз с насыпи, направляясь на железнодорожное полотно. Семеро, четверо мужчин и три женщины, расположились прямо на рельсах; преградив путь приближающемуся поезду, они подняли повыше транспарант и плакаты. В отдалении уже показался поезд, он приближался к ним.
Что, если он не остановится? Что, если он наедет прямо на них, раздавит людей, как это было в телевизионном фильме о Диком Западе, который видела Лиза? Она крепко держала край транспаранта, вцепившись в материю с такой силой, что побелели костяшки пальцев.
— Посмотри на них, — схватив ее за руку, воскликнула женщина. — Великолепная семерка!
Увидев приближающийся поезд, толпа запела. Они пели «Мы победим». Лиза никогда не слышала этой песни, но мотив был простой, она быстро уловила его и тоже начала подпевать.
Мы победим, мы победим,
Верим: победа ждет!
Наши сердца верой полны,
Что победит народ!
Машинист увидел их еще издали. Было слышно, как он включил тормоза, послышался долгий низкий звук, напоминавший собачий вой. Поезд замедлил ход и остановился в доброй сотне ярдов от того места, где Великолепная семерка держала высоко поднятый транспарант и плакаты. Толпа запела «Иерусалим», машинист и другой человек в такой же форме сошли с поезда и пошли по путям на переговоры с манифестантами. Все двери и окна поезда распахнулись, и пассажиры высунули головы. Потом они тоже повыскакивали из вагонов и рассыпались вдоль линии.
Все это больше прежнего напоминало фильм о Диком Западе, когда появляются индейцы или банда грабителей из Додж-Сити. Лиза и ее товарищи, державшие транспарант, придвинулись поближе к полотну, чтобы принять участие в спорах, было много крика, угроз, а одного мужчину пришлось удерживать от драки с машинистом. В любом случае зачинщиком был не он. Лиза решила, что думать так — крайне несправедливо. Но она получала удовольствие от каждой минуты своего пребывания, так сильно она не радовалась жизни с самого приезда Бруно. Можно даже было сказать, как это поняла Лиза потом, что с тех пор, как приехал Бруно, она вообще ничему не радовалась.
Лиза оставалась с манифестантами и после обеда, почти до вечера. Они поделились с ней сэндвичами и сухарями из своих запасов, все они верили, что она здешняя, из деревни, ее родители находятся где-то там, у станции, а она отбилась от них. Железнодорожники продолжали сопротивляться. Великолепная семерка стояла насмерть. Через некоторое время прибыли какие-то чиновники Британской железной дороги, послышались разговоры о том, что вызовут полицию, манифестанты, стоявшие на насыпи, уселись на траву, двое заснули. Лиза прислушивалась к спору о ядерной энергии, разрушении окружающей среды и преданных идеалах. Она впитывала все слова, складывала их в своей памяти, не понимая того, о чем говорилось, пока наконец ей не сделалось скучно, тогда она побрела прочь.
Она шла босиком, ее туфли, в которые она засунула носки, были привязаны к ее поясу. По положению солнца и нагретости воздуха Лиза вычислила, что должно быть по меньшей мере часа четыре. Она села на траву, чтобы надеть носки. Завязывая шнурки на туфлях, она услышала, что поезд тронулся, и обернулась, чтобы проводить его взглядом.
Манифестантов, должно быть, уговорами или угрозами заставили покинуть пути. Поезд, постепенно набирая скорость, прошел между рядами потерпевших поражение манифестантов и подошел к станции. Лиза увидела, как он снова двинулся и, наконец, исчез за поворотом, проглоченный холмами, — последний поезд, прошедший по долине.
Лиза вернулась домой через сад Шроува, пересекла аккуратную лужайку, подстриженную в то утро мистером Фростом. Мать сидела на ограде перед коттеджем и ела яблоко. Оранжевая машина исчезла.
— Где ты была? Ты не пришла домой к обеду, и я заволновалась.
Солгать было проще и безопаснее.
— Я взяла обед с собой. Сделала сэндвичи.
Правду мать не узнала бы, ведь все это время она провела в постели с Бруно. Где он, между прочим?
Не успела она спросить, как мать сказала:
— Бруно уехал в Чешир побыть с матерью. Его мать очень больна.
Ничто не могло быть приятнее, желаннее, ничто не могло бы доставить ей большую радость, разве что сообщение о том, что он не вернется.
— Он, вероятно, уехал надолго, — сказала мать. Она увела Лизу в дом, и когда они оказались в гостиной, закрыв за собой дверь, мать обняла ее и сказала:
— Извини, Лиза. Я забросила тебя, последнее время я не была тебе хорошей матерью. Не могу объяснить причины, но когда-нибудь ты поймешь. Обещаю, что теперь, когда мы снова вдвоем, все пойдет по-старому. Простишь ты меня?
Никогда еще мать не просила у нее прощения. В этом не было нужды, пока не приехал Бруно. Теперь, когда Бруно уехал, Лиза простила бы ей что угодно.
Это был День последнего поезда.
Шон угрюмо спросил:
— А по-другому он когда-нибудь обижал тебя, этот Бруно?
— Не бил ли он меня, это ты имеешь в виду?
Шон сказал, нет, не это, и объяснил, что он имел в виду.
— Никогда не слышала о таком, — ответила Лиза. — Неужели мужчины действительно делают это?
— Некоторые делают.
— Так он не делал. Я сказала тебе, что он ненавидел меня. Он хотел быть наедине с Ив, а я путалась под ногами. Так было не всегда. Поначалу он относился ко мне с симпатией, написал мой портрет, тот, о котором я тебе рассказывала. Он постоянно писал портреты Ив, а потом сказал, что напишет мой портрет. Я села на стул в маленьком замке, и он написал мой портрет. Он был тогда очень добрым. Я должна была долго сидеть не шевелясь, и потом он купил мне клюквенный сок, который я до этого не пробовала, и бисквиты с глазурью, которые Ив не разрешала мне есть. Он покупал мне массу всякой всячины, когда они ездили за покупками. Оглядываясь назад, я думаю, что он просто пытался снискать расположение Ив.
— Что сделать?
— Втереться в доверие. Сделать так, чтобы он больше ей нравился. Но потом Бруно, должно быть, понял, что делать это не обязательно, он и так достаточно нравился ей. И он изменился. Когда он заболел и понял, что ему не удастся убедить Ив отослать меня даже в обычную школу, вот тогда он изменился. Не могу передать тебе, какое облегчение я почувствовала, когда узнала, что он уехал, я была так счастлива.
Шон выключил телевизор. Для него это была жертва, Лиза оценила жертву и закрыла книгу. Он обнял ее.
— Кто была та женщина, о которой ты говорила, та, которая рассказывала истории своему мужу?
«Запомнил», — подумала Лиза. Ей это было приятно.
— Шехерезада. Она была восточной женщиной, арабкой, наверное. Ее муж был царем, который обычно женился на женщинах, а утром, после первой брачной ночи, казнил их. Он отрубал им головы.
— Зачем?
— Не знаю, не помню. Шехерезада решила, что не допустит, чтобы ей отрубили голову. В их первую брачную ночь она начала рассказывать ему историю, очень длинную историю, которую не успела окончить к утру, но он так страстно хотел узнать, чем же все закончится, что пообещал сохранить ей жизнь до утра следующей ночи, чтобы услышать конец. Но история не закончилась, или она начала следующую, и так это продолжалось, пока он не привык к ее историям и не мог убить ее, а в конце он полюбил ее, и они жили долго и счастливо.