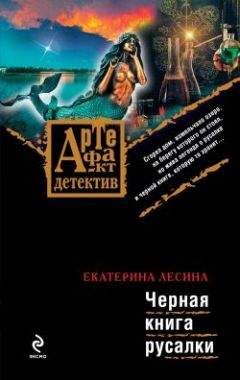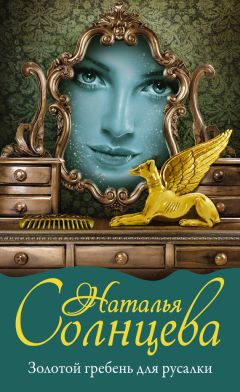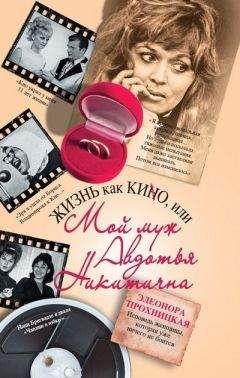Никогда не судьба.
Лишь бы не больно было... врачи говорили, что Степан сразу...
– Ну здравствуй, долго же ты... – сказала она, отступая в темноту кухни, запнулась за порог, покачнулась и совсем не удивилась, когда в грудь толкнули.
Сухо треснула кость, ломаясь об острый угол лавки, и холодные, мокрые пальцы легли на веки, закрыли, не позволяя видеть, как растекается по полу темная кровяная лужа.
И вправду не больно. Жаль только, что окно открытым оставила.
– Я не желаю больше находиться здесь! – Тяжелый кубок впечатался в стену, отлетел, рассыпая веером алые винные капли. – Я не хочу!
Следом полетело блюдо, тяжелое, неудобное для швыряния, и оттого грохнулось оно тут же, на ковер, забрызгав подол Лизкиного платья жиром да вялыми луковыми колечками. Это обстоятельство вызвало новую вспышку гнева, за которой последовали визг, топанье ногами, слезы и обвинения.
Никита слушал, рассеянно ковыряясь в тарелке и думая о том, что когда Луиза уберется из поместья, жить станет легче. Давным-давно следовало отослать ее. Подарить колье, браслет или просто кошелек поувесистей, да и забыть.
– Я поверила тебе! Я отдала самое дорогое, что имела, – свою честь. – Плюхнувшись на стул, Луиза принялась нервно обмахиваться веером. Белые перья гоняли воздух, пламя свечей то приседало, то подымалось, тянулось к оголенным, посыпанным мукой плечам. Скользило, гладило, изучало неровности кожи, черные пятна мушек, каковых сегодня было особенно много.
– Честь ты отдала своему мужу.
– Он был хорошим человеком. Не чета тебе! Я... я надеялась, что ты образумишься! – Луиза закатила глаза, готовясь упасть в обморок, но потом, видимо, передумала. – Я верила! Я молила Господа, чтобы ниспослал покой на душу твою! Чтобы очистил разум твой, чтобы...
– Спасибо.
– У твоих ног мог быть весь мир! Париж! Лондон! Венеция! Только подумай, чего бы ты добился, если бы...
– Если бы начал показывать чудеса кучке разряженных глупцов? Тех, кто жаждет поглазеть на чудо? Стать потехой, это ты предлагаешь? Посмешищем? О да, бородатая баба! Карлик кривобокий! Волохатый человек! И я! Я, Ник Мэчган – еще один уродец? Мне надоело!
Надоело? Когда? И почему сама мысль о вещи столь обыкновенной вызывает омерзение. Память... проклятый Брюс, забравший его память. Что было в прошлом?
– Ты – ничтожество. – Луиза поднялась. – Трусливое ничтожество! О да, ты проведешь остаток жизни, сидя за книгами, пытаясь найти неизвестно что! Ты и издохнешь в поиске! Ты... ты никого не любишь! Говоришь, уродец? Ты и есть уродец!
Подхватив юбки, она выбежала из комнаты. Ну да пускай, к тому все шло... Никита поднялся, аккуратно сложил салфетку и, подняв с пола кубок, поставил на стол. Беспорядок ему претил, а разговор, как не хотелось, но заставил задуматься.
Уродец? Не способный любить? Так разве сама Луиза способна? Разве что себя. Жестокое, капризное существо. Ну а Никита... Брюс называл его рациональным. Разумным. Высшая похвала.
Пожалуй, впервые за очень долгое время Никита с приязнью вспомнил о тех давних временах, когда он не был еще Мэчганом, да и вообще никем не был, так, глупым мальчонкой с пустыми мечтами и глупыми надеждами. Благодаря им да еще, может быть, врожденному упрямству он и держался.
Сводило судорогой пальцы, разливались чернильные моря, скрывая все, Микиткой написанное, и хмурый Остап снова тянулся к розгам.
Болели спина, плечи, колени, стертые от долгого стояния в углу, драло сушью горло, вертелись в голове латинские глаголы, каковые Микитка всю ночь повторял вслух, как Остапом велено...
Дрожала в ужасе душа, когда трясущиеся руки чертили первую пентаграмму... и рядом уже не Остап – Брюс. Но столь же строг, нетерпим к ошибкам, падок на порку либо... лучше порка, чем десятый час кряду перерисовывать мелкие индейские письмена.
Бывали моменты, когда Микитке хотелось одного – сбежать из Сухаревой башни, и он, свернувшись в клубок, грыз пальцы, болью притупляя слезы. И думал о том, что перетерпит, вырастет, сможет...
Смог. Чего-то да смог. Не колдун, но алхимик, который суть ученый, познающий свыше дозволенного. Дитя любопытной Евы, вновь не сумевшее устоять пред заманчивым шепотом Змия...
Или сумел? Может, с того и ушел из Сухаревой башни, чтоб не мараться? Что же с памятью, с головой? Отчего встают перед глазами картины отрывочные, друг с другом не связанные?
Вот Черная книга. Хрупкие листы, старая кожа, тонкая, такая, что страшно прикоснуться, выцветшие чернила, бурые, точно кровью человечьей книга писалась, запах ила, явный и резкий, танец символов. Брюс все силился прочесть, кое-что получалось, и тогда книга убиралась в тайник, а в комнатах на верхних этажах башни начиналось иное действо.
Разжигали анатор, сыпали в пламя травяные смеси, лили снадобья, вонь от которых порой аж на улицу выкатывала, заставляя народец пугливо шарахаться да креститься, чертили пентаграммы, порой на бумаге, порой на полу...
– Истинная ценность знания в его обладании, мальчик мой, – говорил Брюс, склонившись над бумажным листом, наполовину уже покрытым мелким почерком. Вроде и понятным, а попробуй прочесть – бессмыслица выходит. Сторожит Брюс тайны свои, бережет от взглядов чужих, хоть и не чужой ему Никита.
Когда это было? И было ли?
– Сей мир живет непостоянством. Он лжив и изменчив, поманит любовью и спустя годы обернет ее скукой. Одарит богатством, чтобы тут же отобрать его. Либо же поработить им. Даст иллюзию славности рода, и тут же род сотрет с лица земли. Лишь знание постоянно, лишь в нем сила твоя.
– Ты умрешь, и знание уйдет вместе с тобой! – воскликнул Никита, обуреваемый не злостью, но желанием доказать Брюсу его неправоту. А тот, отложив перо, ответил:
– Если умру, то да. Если.
Яков Брюс был одержим.
Яков Брюс назвал Никиту глупцом, который, вместо того чтобы сделать шаг вперед, бежит назад в страхе перед неведомым, что свойственно черни, но не алхимику.
Яков Брюс был разочарован и... и дальше обрыв. Пустота. Кряжистый, оплывший силуэт Сухаревой башни, неведомого сторожа, что запер от Никиты его же память. И ощущение свободы...
Сбежал ли он? Или Брюс выгнал? Что случилось дальше? Откуда взялись города, люди, мелькавшие во снах, откуда ощущение брезгливости и тоски? Или собственного превосходства над толпой? И что за тень стоит по левую руку, безлика и недвижима, но постоянна? Она не Брюс и не Остап, но кто-то, кому ведомо прошлое...
Тоскливо. Пусто. Ветер за окном, зима. Сбежать из одной тюрьмы в другую? Кажется, он снова потерял свою дорогу.
И почудилось – сквозь притихший вдруг вой ветра слышится нежный и такой знакомый смех.
– Егор! – позвал Никита и, когда из боковой дверцы показалась заспанная рожа мужика, поманил к себе, приложил палец к губам и шепотом спросил. – Слышишь?
– Чего?
– Смеется кто-то. Женщина.
Егор повел плечами, вздохнул, точно сетуя на Никитову глупость, и мягко, как ребенку, ответил:
– Помилуйте, барин, ветер. Чудится.
Нет, не чудится. Вот же и голос ее, тонкий, едва-едва различимый вплетается в косы метели, зовет.
– Микитка! Иди ко мне, Микитка!
– Почивать бы шли, барин. – Егор поежился и зевнул. – Ветер это.
– Завтра... да, завтра чтоб с утра самого сани заложил. Поедем в... я покажу куда.
Нет, не к озеру, а дальше, туда, где вырывается из водяной глади тонкая жила ручья, где подымается она к занесенной снегом роще березовой, а потом к полю, что по лету колосится живым золотом, и дальше, к высокому забору, к дому...
Да, он хотел вернуться. Домой хотел. И уже завтра...
Ветер ударил в стекло колючим снегом, и снова послышалось:
– Иди, иди, Микитка!
Придет.
– Что я? Хозяин ей, что ли? – бормотал толстый мужик в надетой на голое тело рубашке, незастегнутой, позволяющей разглядеть и впалую грудь, покрытую редкими рыжими волосками, и мягкий пузырь живота с узелком пупка, и красные трусы, выползшие из-под резинки спортивных штанов.
– Я ж никто... так, сосед... живем мы тут. – Мужик близоруко щурился, вздыхал да теребил засаленную полу рубашки. – Она ж ненормальная... ненормальная!
– Точно, ненормальная! – поддержала его супруга, дама ухоженная и, как показалась Антону Антонычу, несколько надменная. – И мамаша ее, и сама! Сумасшедшая!
– Тонечка...
– Молчи, я знаю, что говорю. Это он пришлый, а я в этом доме с детства! Я знаю, в чем тут дело! Да! – Она воззрилась на Шукшина с явной надеждой на вопрос, и Антон Антоныч не стал надежду обманывать, задал: