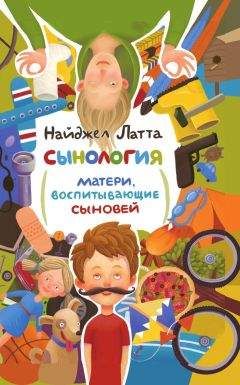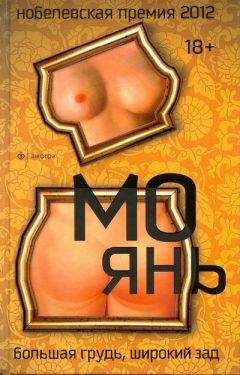Кавелька и Путаник смотрят друг на друга с подозрением, потом дружно сопят и хватают ручки. Кавелька черкает скорописью, словно боится забыть о себе что-то, Путаник выводит крендельки и завитушечки, словно пытается что-то вспомнить. Пока они пишут, Марина забирается мне на колени, и мы резвимся, как две собачки. Потом я плачу пошлину, потому что жених с невестой выше денег, а Марина выписывает "Свидетельство о браке". Кавелька расписывается за себя и за свидетеля жениха, а Путаник -- за себя и за свидетельницу невесты. Я включаю электроколымагу, из которой тотчас ревет марш Мендельсона, отштамповываю паспорта и вручаю молодоженам. Кавелька ревет в голос и трясет головой, а Путаник так смущен, что закрывает лицо развернутым паспортом, и на лбу Миши отпечатывается непросохший штамп. Вдруг меня осеняет, я даже подпрыгиваю:
-- Марина, давай тоже станем мужем и женой!
-- Ой, как здорово! -- радуется Марина и хлопает в ладоши.
Кавелька тоже радуется и тоже хлопает. И даже Путаник бьет ладонь о ладонь.
Мы тотчас строчим анкеты и еще одно "Свидетельство о браке". Потом Марина встает на одном краю стола, а я -- на противоположном.
-- Иван, -- улыбается Марина, -- ты ведь согласен взять меня в жены?
-- Да, -- говорю я.
-- А я? -- улыбается Марина. -- Я согласна стать твоей женой? -- Она обегает полукруг стола, берет меня за руку и говорит: -- Я и подавно согласна.
И возвращается на свое место:
-- Объявляют нас мужем и женой! Вот так-то! Путаник заводит шарманку с Мендельсоном, а я беру Марину на руки и обношу вокруг стола, как приз.
Тут даже мне становится весело.
-- Пойдемте в ресторан! -- предлагаю я. -- Не каждый же день женишься!
Путаник смотрит на часы и издыхает с облегчением:
-- Ресторан закрыт.
-- Тогда пойдемте к моей жене и будем пить фирменный напиток Сворска: уж бутылка гидролизного у любого таксиста есть!
-- Зачем покупать? -- спрашивает Путаник. -- У меня в портфеле всегда лежит такая бутылка.
-- А еду можно попросить у Фрикаделины, -- улыбается Марина, -- или у Любки.
-- Мы с Мишей поспешим ко мне, -- говорит Кавелька, -- я вся горю. Я так долго ждала, что у меня не осталось сил на праздник.
-- Что ты ждала? -- улыбается Марина.
-- Когда, наконец, Миша станет моим мужем по-настоящему, когда два наших тела и две души сольются в одно и в одну на узенькой девичьей кроватке, и только сноп лунного света встанет вуайером над таинством любви да ветви за окном, шелестя и напевая...
-- Но Миша уже стал твоим мужем по-настоящему, -- перебивает Марина.
-- Нет, еще не стал. Я лучше знаю, я чиста, как весталка, -- утверждает Кавелька. -- Он, правда, порывался, негодник, но я не позволила.
Путаник сопит в оправдание.
-- А как же становятся "по настоящему"? -- улыбается Мерина. -- С помощью снопа и ветвей?
-- Разве ты не знаешь? -- спрашивает Кавелька.
-- Нет, -- улыбается Марина.
-- Иди сюда. -- И Кавелька шепчет моей жене на ухо таинства любви.
-- Как интересно!.. -- говорит Марина, прямо-таки засовывая ухо в Кавелькин рот; но я ждал, что она сильнее удивится. -- Я тоже хочу попробовать. То-то я думала... А это можно делать с любым мужчиной или только с Путаником?
-- С любым, кроме Путаника, -- говорит Кавелька.
-- Тогда расскажи об этом же Ивану.
-- Я все знаю, -- говорю я.
-- Знаешь? -- удивляется Марина. -- Тебе Путаник рассказал?...
Мы гасим свет, запираем двери и расходимся в разные стороны.
Возле дома я говорю Марине:
-- Давай заглянем к Адаму Петровичу! Вот он за нас порадуется.
-- Конечно, заглянем, -- соглашается Марина, -- хоть мне и хочется поскорее попробовать.
Нам открывает Фрикаделина, в глазах -- слезы.
-- Что случилось? -- пугаюсь я, потому что первый раз вижу Фрикаделину плачущей.
-- Нашего секретаря сняли с работы, -- всхлипывает Фрикаделина, -- а мой дурак заявление написал. Не буду, говорит, ждать, когда выгонят.
-- Давно это случилось? -- спрашиваю я.
-- Днем, -- отвечает Фрикаделина.
-- А где Адам Петрович? -- спрашиваю я.
-- В типографии.
Мы бежим туда, и еще от дома я замечаю, что на крыше типографии стоит, как печная труба, столб света, а из столба валит дым, словно исток Млечного Пути. Мы припускаем еще быстрее. Какие-то полуночные зеваки думают вслух, вызывать -- не вызывать пожарную команду. На проходной -- никого. Перепрыгивая через три ступеньки, я влетаю на чердак, ногой пинаю дверь с этикеткой "Директор" и первое, что вижу, -- черный металлический ящик на длинных ножках, в котором уличные продавцы готовят шашлык. Из мангала и валит дым в открытое на крыше окно, а Семенов мешает в мангале кочергой, кашеварит. Сусанин сидит за столом в клубах дыма, и вокруг его головы летают траурные бабочки -- клочья горелой бумаги. Лицо Сусанина страшного цвета. В такой цвет выкрашены стены сортира на Сворском вокзале. Адам Петрович кидает в огонь целые охапки бумаг и даже папки, а Семенов старательно их ворошит, чтобы горело быстро и без остатка.
У меня отлегает от сердца. Я плюхаюсь на стул возле двери и говорю:
-- Ну и напугали вы меня, Адам Петрович! Я уж решил, что вы типографию с горя подпалили.
-- С какого горя? -- спрашивает Сусанин, раздирая стопу приказов.
-- Разве ничего не случилось? Секретаря не сняли?
-- Ровным счетом ничего не случилось, -- говорит Сусанин. -- Я сжигаю свой архив. Зачем он преемнику?
-- Может, еще успеете дело поправить? Может быть, что-то само собой изменится?
-- Поправить? -- переспрашивает Сусанин. -- Не стоит ничего поправлять.
-- Идемте спать, Адам Петрович. Ляжем, как в сказке: утро вечера мудренее. За ночь обмозгуете ситуацию, глядишь, придумаете какой-нибудь неожиданный ход и выпутаетесь.
-- Вот я как раз и выпутываюсь! -- кричит Сусанин, бросая в огонь гроссбухи.
-- Они не сгорят, -- говорит Семенов, -- надо было порвать в клочья.
-- Знай помешивай! -- командует Сусанин.
-- Зря вы так быстро руки кверху подняли. Лучше места, чем у вас, во всем Сворске не сыщешь.
-- Я не сдаюсь и не собираюсь ничего искать. И потом -- мирное население в плен не берут.
-- В мирное время, -- добавляет Семенов.
-- Да замолчишь ты, наконец! -- кричит Сусанин. -- Хоть раз можешь обойтись без сентенций?!
-- Я вот тебе поору на меня, -- грозит Семенов кочергой.
-- Зачем же вы подали заявление, -- спрашиваю я, -- если не сдаетесь?
-- Зачем? Да не понравилось мне, что моя тринадцатилетняя дочь заговорила обо мне в перфекте. Нашла в семье покойничка!.. Мне стыдно перед своим ребенком! Никому не стыдно -- а мне стыдно!
-- Что же она такого ужасного сказала?
-- Да говорит: "Мой отец жил, потому что его родили. Он умел только пить-есть, гадить и смотреть в окно по вечерам, строя при этом такую грустную физиономию, словно на улице осталась вся его жизнь. Каждый день этот трус ходил на работу, которую ненавидел, и боялся уволиться, чтобы не потерять то, что у него было: вытертый палас, замусоленное кресло, магнитофон с отжившими песнями и хрустальную пепельницу на журнальном столике. Он продал вечное, чтобы за зарплату существовать в преходящем и владеть своей рухлядью на правах личной собственности. Он превратился в марионетку, которую дергали вещи, вернее, барахло. А ведь в детстве подавал надежды вырасти порядочным человеком".
-- Антонина уже задумывается о вечном и преходящем? -- спрашивает Семенов.
-- Нет, вечное я от себя вставил.
-- А пепельницу?
-- Пепельница -- тоже отсебятина.
-- Что же сказала твоя дочь?
-- Неважно.
-- Ничего она и не говорила, -- решает Семенов.
-- Так скажет, если я не уволюсь.
-- Но как вы собираетесь жить без работы? -- спрашиваю я.
Сусанин машет рукой:
-- Все равно на этой работе я чувствую себя безработным. Семь лет сижу на чемоданах и все не решусь подхватить их и убежать сломя голову. Паяц гороховый, который сам себя развлекает, пытаясь скоротать время до пенсии, спастись от обвинения в тунеядстве и встать в ряды Столика и Сплю. Вдолбили в школе, что у нас каждая личность развивается в полной гармонии с обществом, и я сидел, ждал до седины в висках, когда начнется мое гармоничное развитие. Господи, сколько идей погибло во мне! За что у меня отняли меня?! За что превратили в живую разнарядку?! В чем я провинился?! В чем моя вина?! Хватит! Сегодня я стал жмотом. Больше не отдам даже дня своей жизни. Пусть не просят. И наконец-то перестану чувствовать себя увядшей проституткой.
-- Все равно мне непонятно, чем вам вдруг не угодило кресло директора, -- говорю я. -- Все мы -- разнарядки. И в любом другом месте вас ждет то же самое.
Сусанин кладет ноги на стол, как янки:
-- Понимаешь, Иван, я -- одержимый. Когда я был чуть моложе тебя, я открыл себе мир античных лириков и влюбился в одного из них. С тех пор я хочу целыми днями читать его, думать о нем и писать, чтобы другие тоже узнали, какой великий и сладкоголосый поэт был Пиндар, и почему даже пчелы строили соты на его губах. Когда меня сослали в Сворск, я сказал себе: плюнь на эту принудительную полутюремную работу, делай кое-как, лишь бы отвязались, но трудись по выходным, пиши свою книгу. "Книгу восхищения Пиндаром"! Когда никто не скажет тебе, что ты лодырь и объедаешь государство, когда другие пьют пиво или снят перед телевизором -- делай дело. Делай хоть для себя, если никому это не нужно. Ведь такую работу и работой не назовешь, -- это удовольствие!.. Так говорил, говорил я, по ничего у меня не получалось. Все выходило кое-как: и принудиловка, и удовольствие. Чтобы заниматься филологией всерьез, надо иметь под рукой государственную библиотеку, и не одну. А когда мне было ездить в Ленинград и в Москву? Кто отпустил бы меня на год в творческую командировку, если я нужен здесь заниматься не своим делом...