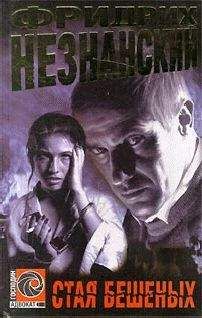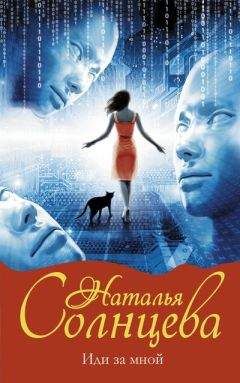– Ира, успокойся, – увещевал ее Гордеев, – все не так страшно. Тебе нужно только сконцентрироваться и рассказать мне, а потом объяснить следователю, что же в самом деле произошло.
Она понимала, что он утешает ее, что он говорит клише обычных фраз, уже тысячу раз говоренных в подобных ситуациях, которых он тоже, бедняга, уж насмотрелся дай боже. Ей было неловко и стыдно перед ним. Однако она действительно попыталась собраться. Она села, отдышалась, приняла никак не вяжущуюся с ее состоянием раскованную позу и нарочито спокойно начала свою повесть:
– Я этого человека заметила еще в поезде.
– То есть он ехал в одном поезде с тобой? – уточнил Гордеев.
– Да нет, вовсе нет, – опять завелась Ирина, – нет, он со мной не ехал в поезде, но я видела, как он подсаживал в поезд сначала эту тварь, которая у меня украла деньги, а потом другую тварь, такую же точно, как эта. Какие суки! – воскликнула Ирина и залилась слезами.
Юрий Петрович помолчал с минуту, давая возможность Ирине осушить потоки горьких слез. Он понимал с первых минут, что сегодня, по всей вероятности, добиться от Ирины путных ответов не придется. Но хотя бы можно будет задать ей вопросы, которые станут предметом ее неустанного раздумья наедине с собой в камере. Эти вопросы были готовы, оставалось только выждать приличное для них время. Пока же Ирина плакала по поводу того, как горько обманулась в людях. Когда шлюзы ее слез закрылись, Юрий Петрович продолжил расспросы.
– Ты увидела его…
– Я увидела его на вокзале с этой тварью, – порывисто продолжила Ирина. Она не пояснила, с какой из тварей именно, но Гордеев догадался, что со второй.
– Они стояли, – глаза Ирины расширились, видно было, что картина дня начинает вставать перед ее внутренним взором, – и трепались о чем-то. Он улыбался, сволочь. Я как его увидела, во мне такая злоба вскипела, я прямо думала, сейчас вот как дам чемоданом по башке, чтобы дух вон. Потом решила: надо в милицию обратиться.
– Но от этого плана ты отказалась?..
– Да, мозгов хватило. Даже не мозгов, а, как сказать… интуиции, что ли? Я вот как чувствовала, что эти мусора, они…
Гордеев покачал головой. Пребывание в тюрьме производит на всякого человека свое педагогическое воздействие. Представить в устах Иры еще несколько дней назад слова «мусора», «суки» и прочие, которые она стыдливо не произносила при Гордееве, но готова была произнести, было никак не возможно. Какая ошибка называть тюрьму «исправительным» заведением, а фактическую каторгу «исправительными работами». Тюрьма – это институт разврата. Который может погубить даже самые добродетельные души.
– Я почти чувствовала, что на этом вокзале все не кругло. Мне говорили сколько раз, что вокзальная милиция – это особая статья, что они заодно с преступным миром. Я поэтому и не пошла ни в какую милицию, а решила сама проследить.
– А как у тебя возникла такая мысль, проследить самой? Чего ты хотела этим добиться?
– Как чего? – удивилась Ирина. – Ну… Мне же нужно было понять, откуда он. Я бы, может, на него бандитов навела. У меня одноклассник, Комаров, бандит. Хотел раньше идти в институт физкультуры, но потом… Теперь торгует оружием на Калининском проспекте. Он из солнцевской мафии. Я бы на них наехала бандитами и все. Мне только бы чиркнуть Комарову адресочек, а дальше все было бы как по маслу.
Юрию Петровичу показалось, что Ира гордится тем, что в друзьях у нее есть настоящий бандит. Он уже не в первый раз замечал, что воспитанные люди из хороших кругов заискивают перед бандитами не из желания воспользоваться их услугами, не от страсти к насилию, а только лишь оттого, что в этом ручательстве – «у меня друг – бандит» – была какая-то надежность, нечто дающее уверенность в себе, в собственной защищенности, которую, увы, не давало россиянам ни одно законодательство со времен «Русской Правды».
– Я пошла за ним, – невольно впадая в сказовую интонацию, продолжала Ирина, – мы шли, значит, шли…
Гордеев не торопил ее, понимая, что ей надо вспомнить все, как было, так что неизбежны были риторические остановки.
– …и мне показалось, что он понял, что я за ним иду. Да, ну можно понять конечно. Как я ни старалась быть незаметной, все равно – с моей дурацкой пляжной панамой – ее некуда было пристроить, таскала на голове, как клоун, – с чемоданом… Да, с таким чемоданом конспирация невозможна. Наконец он просто остановился и обратился ко мне…
Ирина весьма подробно изложила все обстоятельства разговора с покойным. Покойник из ее слов получался обаятельным мерзавцем, мерзким обаяшкой, подонком, сволочью, довольно симпатичным мужчиной небезразличного женщине возраста, он походил также на Руфата. В общем, получился довольно противоречивый портрет женской кисти, но в целом это был, конечно, мерзавец, о смерти которого и родная мать вряд ли пожалела бы.
– Он, сволочь, прикинулся вроде бы порядочным. Рассуждал, как благородный, о том, какая у него жена, какая у него собака, а я-то, дура, поверила. Только что саму «обули»…
Гордеев опять поморщился, слушая огрубленную, необычную в устах Ирины простонародную речь.
– …а мне никакой науки. Заговорил со мной человек по-человечески, а я уж, как Каштанка, к нему и кинулась и хвостом завиляла, и уж с ним готова была всю жизнь разговоры разговаривать про то, какая у меня жизнь несчастная. Хоть бы пошевелилось у дуры, что неспроста все это…
Она опять попыталась заплакать от досады на свою беспечность, но сдержалась, понимая, что ее слезы скоро исчерпают лимит жалости Гордеева. Она нуждалась в его сочувствии и не хотела расходовать его по пустякам. Она решила про себя, что будет сдержанней.
– Ой, не Чингачгук я – на швабру пятьсот раз наступлю. Я, правда, подумала, что приду к нему – сразу позвоню Руфату. Скажу хотя бы, где я. Но мозгов недостало подумать, что, может, я и не дойду до телефона. А как можно было угадать? Он милый, представительный, весь обаяшка. Да разве на него глядя можно было предположить, что он начнет меня резать в лифте?
– Как он пытался тебя убить? – несмотря на нейтральность интонации, Гордеев весь внутренне сжался, представляя себе, что Ирина оказалась в пределах аршинного пространства лифта наедине с убийцей.
– Да знаешь, как в фильмах ужасов. Или, скорее, в мультиках. Там, когда страшная сцена, чтобы дети не боялись, свет гаснет в кадре. А потом все продолжается. Погас свет – на секунду все успокоились, вспомнили, что все это понарошку. Так и у меня. Вижу рожу, вижу финку, вижу, что смерть моя пришла, а потом гаснет свет.
Она вдруг посмотрела в окно и беззаботно рассмеялась.
– Знаешь, Юра, я сейчас хотела сказать: «Вся жизнь пронеслась у меня перед глазами», – как пошло! Ничего такого не было. Честно сказать – я чуть не описалась. Да если уж совсем честно – описалась я, да. Вот так!
Она опять засмеялась и превратилась на несколько мгновений в прежнюю Ирину, словно и не было никакой тюрьмы, следствия, близкого конца ее социальной жизни. Сейчас ее беспокоило только то, что она так неприлично испугалась тогда.
Она, придя в оживленное и наклонное к юмору настроение, продолжила:
– Он меня уговорил зайти к нему домой, дескать, так мол и так, их самих провела эта Зина, она и их обворовала, намекнул, что может найти на нее управу, что она от него никуда не уйдет. И знаешь, со мной так давно уже по-людски никто не говорил, что я растаяла и поплелась за ним – легковерная, как гимназистка. Только поинтересовалась, балда, не будет ли он иметь в мою сторону эротических поползновений. Интересно, у меня, наверное, мания величия. Какие поползновения ко мне можно иметь – ты бы меня видел после этого Крыма.
Она опять помрачнела, вспомнив последние минуты, когда можно было все переменить, сделать шаг не в ту, а в другую сторону.
– В общем, мы зашли в подъезд, затем в лифт. И тут, едва лифт стал подниматься, он выхватил нож – я увидела, что это нож, – и нажал на «стоп». Лифт, конечно, останавливается, свет гаснет. Знаешь, все, как в снах девственницы, – лифт, мужчина с ножом. Сюжет для Зигмунда Фрейда. Я, понятно, закрываюсь чемоданом и чувствую, как он тычет в чемодан своей финкой. Мне бы заорать, а я молчу, как рыба. Потом уж он только, чувствую, продырявил чемодан так, что мне лезвие уперлось вот сюда, – она показала на подреберье, – ну, думаю, кранты. Как заору! И в обморок, кажется, попыталась упасть. Прям даже в голове мелькнуло – сейчас вот, думаю, спрячусь, забьюсь в уголок, он меня, может, и не найдет. Скорчилась, а сама туфлю снимаю. Могучий у меня все-таки инстинкт самосохранения! Он, гад, то ли нечаянно кнопку нажал, то ли специально – выйти. Я же затихла, он думал, что убил, так я понимаю. Только двери открылись, я его – раз, за ноги, головой толкнула, он упал и головой о кафель. Но мало. Вижу, поднимается. Тут я ему аккуратно каблуком в глаз. И, ты знаешь, я об этом думала – кажется, не жалею. Правда.